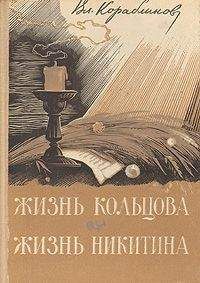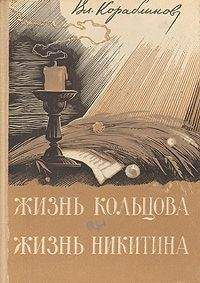– Анюта! – нетерпеливо позвал Никитин. – Анюта!
«Ах, боже мой! – сокрушался он. – Скорее, скорее надо написать, отослать сегодня же!»
Превозмогая боль и слабость, Иван Савич поднялся с дивана, кое-как добрел до стола; задыхаясь от утомления, дрожащей рукой принялся писать, оправдываться: «Не писал потому, что позабыл, где Вы квартируете, хотя Ваш кучер и сказал мне фамилию хозяина дома…» Жалкая отговорка: забыл! Как можно забыть? Да и не забыл вовсе, отлично помнил, но что же иначе сказать в свое оправдание? Неужто правду? «Я умираю, я страшен, я не хочу, чтобы вы видели меня таким!»
«Ложь во спасение», – любил говаривать матери вконец изолгавшийся в своих пьяных спекуляторских махинациях батенька. Мамаша вздыхала: «Враки что собаки, в одиночку не ходят, одна заюжит, другая прибежит!» Вот уж истина-то! Соврав, что запамятовал фамилию домовладельца, на этом не остановился: «Голова моя еще слаба, я все забыл». Все! Как бы не так! Вчера проверял магазинные счета, – все до крошечки, любая расписка, щербатая копейка – все, все в памяти. «Враки что собаки!» Даже чистейшая правда последних строк («буду тогда только счастлив, когда буду иметь возможность видеть Вас»), даже и эта жалкая правда заканчивается ложью; Никитин пишет: «Быть может скоро!» – а знает, что – никогда, что смерть уже бродит где-то около, заглядывает по ночам в чисто вымытые окошки дома на Кирочной: где, мол, тут этот Иван Савич?
Коротенькое письмецо, в котором трижды повторенная «ложь во спасение», запечатано наконец, его надобно скорее, скорее на почту.
– Анюта! – зовет Иван Савич. – Анюта-а!
Ему кажется, что он кричит, что стекла в доме дрожат от его крика, а на самом деле это всего лишь свистящий шепот, который и в соседней-то комнате едва ли слышен.
В открытую форточку доносятся чьи-то голоса, среди которых он различает и Анютин голос. Собравшись у ворот, бабы судачат, слушают Анютины рассказы про барышню, что приезжала к Ивану Савичу; затем что-то про свадебную гульбу у купцов Копенкиных, которая обошлась в пять тысяч; что-то про какие-то чудеса, происшедшие у мощей святителя Тихона.
– Анюта… – шепчет Никитин. – Анюта…
Она явилась, когда уже наступил вечер и было поздно идти на почту.
– Иван Савич, голубчик! – вскрикнула она, увидев его сидящим, беспомощно повалившимся головой на стол; ей показалось, что что-то страшное случилось с ним, что он умер.
– Голубчик! Голубчик! – испуганно лепетала Анюта, гладя Ивана Савича по спине, пытаясь заглянуть ему в лицо.
– Трещотка! – с неожиданной силой оттолкнул ее Никитин. – Трещотка, сорока! Я кричал, кричал, а ты…
– Господи! – ахнула Анюта. – Да вы бы в стаканчик постучали!
– «В стаканчик»! – раздраженно передразнил ее Никитин. – Вот возьми письмо, и чтоб завтра с первой почтой… И уйди, пожалуйста… Уйди! Видеть тебя не могу… вас всех не могу! – поправился он.
– Ох, да что ж это… – начала было Анюта, но Иван Савич сердито махнул рукой, и она ушла обиженная, вытирая фартуком слезы и бормоча какие-то жалкие слова оправдания.
В июне и в начале июля были еще два письма от Наташи. На первое Иван Савич ответил довольно пространно, много рассказывая о своей болезни. Письмо было написано спокойно, сдержанно, может быть, даже чуть суховато. Скучная рассудительность проглядывала в ином месте (о неудобстве в его теперешнем положении жить в деревне, где нет ни доктора, ни аптеки), в ином – равнодушие, холодное сетование на пустяки (журналы приходят неаккуратно, тогда как это единственная его отрада). В таком спокойствии, в такой рассудительности чувствовалась какая-то отрешенность от жизни, смирение перед неотвратимостью того, что должно случиться.
Последнее же письмо, помеченное седьмым числом июля, было откровенным признанием окончательного поражения («я покорился, молчу и принимаю лекарства») и прощанием навсегда («от всей души желаю Вам здоровья и счастья»).
Натали отгадала подлинный смысл последних писем Никитина и мысленно простилась с ним.
А ему вдруг стало легче.
Он начал чаще прогуливаться, изредка выезжал за город. У него появилась надежда на спасение (он говорил: «Надеждишка») и вместе с нею – неутолимая жажда жизни. Боли в груди ослабли, легче стало дышать, но какая-то немощь все еще сковывала его тело, и было непонятно – почему же не возвращаются силы?
После короткой прогулки ноги наливались свинцом, плохо слушались руки, тянуло прилечь. Он присаживался где-нибудь на солнышке, с наслаждением отдыхая и думая все об одном: жить! жить! И часто разглядывал свои руки: сколько бы еще сделали они, эти широкие в кости, с набухшими жилами, большие и когда-то сильные, мужицкие руки! Все равно – писать ли стихи, вилами ворочать ли, мешки ли с овсом таскать, – все равно, лишь бы работать, дышать, чувствовать жизнь.
Жизнь! Как же Иван Савич любил ее.
Но облегчение было недолгим. «Надеждишка», вспыхнувшая в нем, вскоре угасла. Снова ночами слышалась ему беззвучная поступь той, что ждала терпеливо, пустыми, мертвыми глазами заглядывая в окно.
Казалось, не было видимой причины отчаиваться, помышлять о смерти: прекратилась изнурительная лихорадка, кашель не так изматывал, как прежде, тупая, жестокая боль в груди сменилась легким иголочным покалываньем. И доктор, постукивая по ребрам, хвалил, подбадривал:
– Вот какие мы стали молодцы! Так-так… еще вздохните… Отлично!
Но когда Михаил Федорыч спросил его – так ли уж в самом деле хорошо и можно ли надеяться на счастливый исход, он поджал губы и, отведя глаза в сторону, сказал:
– Месяца два в лучшем случае. Наша с вами обязанность сейчас поддерживать в нем уверенность, надежду на выздоровление. А впрочем, – добавил он, – все в божьей воле.
– А знаете ли, – де-Пуле значительно поглядел на доктора, – знаете ли, я заметил у него благоприятные симптомы: он пишет!
– Вот как? – удивился доктор. – Это действительно…
Присутствовавший при этом разговоре Савва сказал:
– Надо быть, выдюжит, наша порода крепкая.
И всем им мнилось, что они отлично понимают состояние Никитина: доктор руководствовался своими медицинскими познаниями, Михаил Федорыч видел благоприятные симптомы, Савва просто гордо верил в неуязвимость и силу своей породы. И так или иначе, все они надеялись. Но сам Иван Савич знал твердо, что тянувшееся весь август облегчение – не более как передышка, что «надеждишка» его есть самообман. Причина такой мрачной уверенности заключалась как раз в том, что Михаил Федорыч считал благоприятными симптомами: его письменные занятия.
Раза два де-Пуле заставал Ивана Савича за писанием: привалившись спиной к поставленным торчмя подушкам, он что-то быстро набрасывал на листке бумаги, однако, завидев Михаила Федорыча, проворно прятал бумагу под одеяло.