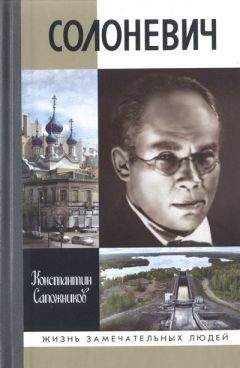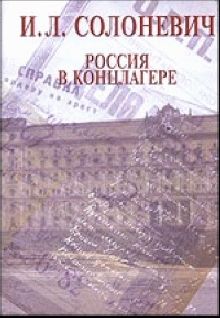Брат нервно закурил новую папиросу.
— Ты сам должен понимать, Боб, что без тебя бежать я не мог. А теперь… теперь — пора.
— Погоди, погоди, Ваня… Уж очень это все для меня оглушительно. Я, пожалуй, уже даже отвык от широкого взгляда на жизнь… Вся борьба была направлена на то, как бы словчиться, чтобы хоть сегодня-завтра быть живым и сытым. Дай толком оглядеться, да очухаться. За все эти годы я видал советскую жизнь только с оборотной стороны. Со стороны изнанки. Дай немного посмотреть на нее и с другой стороны. Ведь трудно же так молниеносно решать вопрос только с индивидуальной точки зрения…
— Ну, что-ж… Присмотрись, Боб, присмотрись… — серьезно ответил брат. — В твоем выводе я уверен. И решай. Пока есть молодость и силы — нужно бежать. Только там, вне этой тюрьмы, мы, действительно, сможем широко бороться с большевизмом и его ядовитым туманом. А здесь — мы на учете, и на плохом учете. Помочь мы здесь уже ничем не можем. Эта иллюзия лопнула. Нам в советских условиях можно теперь быть либо рабами, либо погонщиками рабов. Третьего не дано. А мы ни для того, ни для другого не приспособлены…
Маленький городок у границы с Украиной. Кругом — черноземные поля. К югу эти поля идут до Черного моря. Еще недавно, до революции, эти поля кормили досыта не только всю Россию, но давали хлеб и Европе. Теперь эти поля покрыты редкими посевами, худыми и тощими, поросшими бурьяном. Кое-где кучей ржавого железа стоят в поле брошенные трактора. Поздней осенью из под снега сиротливо торчат неубранные скирды хлеба… А голод держит своими цепкими руками и город, и деревню.
Крестьянство разбито, обессилено и разорено «коллективизацией». Насильно созданные, неорганизованные, лишенные своих лучших хозяев — «кулаков», расстрелянных или высланных на север, — колхозы не могут накормить досыта страну.
Частенько здесь, в эмиграции, друзья и знакомые с интересом спрашивают меня: «Ну, а как вы питались в Советской России?»
Щадя в гостиных и столовых общий аппетит и настроение, я обычно стараюсь ускользнуть от ответов на этот вопрос. Ведь разве можно честно, без замалчиваний, объяснить «приличному обществу», как изворачивался в голодной жизни здоровый парень с бронебойным аппетитом и без «буржуазных предрассудков?»
Не раз на настойчивые расспросы радушных хозяев я сообщал, что мне, собственно, пришлось быть сытым в советские годы только в 1917 году на Кубани и что с тех пор я не голодал только два коротких периода в моей жизни — около года в период НЭП'а (1925–1926 г.г.) и месяца два — в концлагере, перед самым побегом заграницу, когда я накапливал силы самыми смелыми и рискованными путями. Все же остальное время это постоянное полуголодное существование, постоянная нехватка даже черного хлеба, не говоря уже о всяких полузабытых вещах, как масло, мясо, сахар…
Как я выглядел в 1933 году — в период питание воронами. Вес был около 80 кило (теперь — 94). За плечами — штатив фотоаппарата. На мне морской бушлат, выдачи 1923 года.
Как глубоко унизительна для сознание культурного человека эта постоянная погоня за «жратвой»! Поесть досыта хотя-бы несколько дней подряд — представлялось какой-то недостижимой мечтой. И мудрено ли, что за первые три месяца моего пребывание в благословенной Финляндии моя скромная персона стала весить на 12 кг. больше.
А «в прежнем» в течение остальных долгих лет моего подсоветского существование на моей «скатерти-самобранке» перебывали самые «оригинальные» блюда: и вороны, и галки, и воробьи, и лягушки, и собаки, и кошки, и даже крысы… Бр-р-р… Всего было. И все это вовсе не дело далекого прошлого. Еще в 1933 году, перед вторым побегом, меня, человека с высшим образованием, спасали от голода родимые русские вороны, которых я ловил капканом.[41]
Кусочек «советской карьеры»
Попав в тихий, богоспасаемый град Орел, я надеялся там несколько отдохнуть от избытка административного внимание ОГПУ и пробыть некоторое время в безвестности и покое. Но мне не повезло. Мне удалось скрыть свои медицинские звание и не поехать по разверстке Райздравотдела в какой-нибудь «учертанакуличкинский» колхоз. Но меня подвела известность атлета и, так сказать «спортивного писателя». Слухи, что я где-то скрываюсь в городе, просочились в местный совет физической культуры. Получив повестку явиться, я не стал дожидаться, когда ОГПУ «подтвердит» вызов, и, «скрипя сердцем», поплелся в совет.
— Вы же сами должны понять, тов. Солоневич, — стал убедительно разливаться передо мной секретарь совета, вихрастый комсомолец, — мы не можем позволить себе такой роскоши, как не использовать такого спеца…
— Но ведь я адмссыльный, — пытался выкручиваться я.
— Ну, это дело уже кругом согласовано. Звонили и в ГПУ и там все утрясли. Одним словом — два слова… Кругом шишнадцать. Вот вам путевка на железку. Мы надеемся, что вы там поставите работу на ять…
Словом — «без меня меня женили, я на мельнице был»… Но спорить, особенно в моем положении, было, мягко выражаясь, неосмотрительно. Я и не спорил.
Впрочем, мои спортивные таланты были в периоде эксплуатации что-то месяца только два.
Как-то утром ко мне впопыхах вбежал сторож клуба:
— Так что, тов. Солоневич, начальник просит срочно прийтить. И с вашим… как его… фатиграфским аппаратом…
Оказалось, что начальство хотело увековечить какой-то очередной пленум, «явившийся переломным моментом в развитии»… чего-то там… ну, и так далее. Но городской фотограф почему-то не прибыл. Тогда вспомнили обо мне. А у меня, действительно, был небольшой «фатиграфский аппарат», старый Эрнеман с апланатом. Но на безрыбье и рак — рыба. И мой заграничный Эрнеман возбуждал благоговение окружающих. В своей комнате я ухитрился устроить даже что-то вроде лаборатории. Так как ни электричества, ни керосина не было, то я попросту вставил в окно фанерный щит с красным стеклом и с помощью семафорных линз, скомбинировал даже увеличитель….
Голь на выдумки хитра. А советская — в особенности: иначе не проживешь.
Мое появление на Пленуме было встречено весьма радостно. Запечатлеть свои физиономии в назидание потомству — что ни говори — заманчиво. Особенно — задарма…
— Ну-ка, Солоневич, — приветствовал меня секретарь парткома, окруженный «энтузиастами советского транспорта» — исковеркай нас, как Бог черепаху…
Мой Эрнеман щелкнул.
Через час, когда делегаты после обеда вернулись в зал заседания, большая увеличенная фото-группа уже висела у входа.