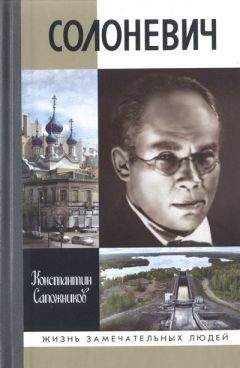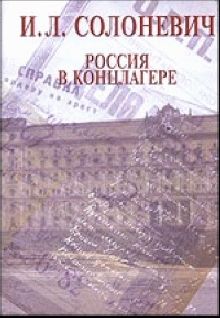Мой Эрнеман щелкнул.
Через час, когда делегаты после обеда вернулись в зал заседания, большая увеличенная фото-группа уже висела у входа.
Фурор был полный. Меня прозвали «сверх-ударником с ураганными большевицкими темпами», а вечером замороченный и обалдевший завклуб заявил мне на самых лирических тонах своего скромного и охрипшего от говорильни диапазона:
— Брось-ка ты, Солоневич, свою физхалтуру к чертовой матери… Кому она, в самом деле, нужна? Вот тоже занятие! Переключайся-ка, брат, на фото-работу. Вот это — да! Ударники, кампании, премиальничество, интузиасты, подъем масс и всякая такая штукенция. И потом опять же — на виду всегда. Сегодня, вот, здорово ты стгрохал все это. Так как — заметано? Пиши смету. На что другое — а на показ достижений деньги завсегда найдутся. И должность тебе как-нибудь сварганим подходящую, занозистую…
Так стал я фотографом, или, официально — «рукрайсветгазом» нашей железки[42] и поселился на Железнодорожной улице No. 12.
В другой половине нашего крохотного домика жила семья железнодорожного слесаря — типичная семья провинциального рабочего — всегда полуголодная, оборванная и придавленная нуждой.
Маленькая дочурка слесаря, Аня, только летом могла всласть бегать по садику и двору. В остальное время, особенно в плохую погоду и зимой, она отсиживалась дома по той простой причине, что ее обувь не была предназначена ни для грязи, ни для снега. Когда бывали морозы и грязь, Аня не могла даже в школу ходить.
За два года, которые я провел в соседстве с семьей слесаря, Аня только раз получила молоко. Да и то это было, когда девочка заболела и ей нужно было «усиленное питание» (кошмарная фраза для каждого русского врача).
И купленный Ане литр молока за два рубля, помню, пробил сильную брешь в бюджете слесаря. В этот день взрослые голодали.
Как-то весной я разговорился с маленькой Аней, копошившейся в песке, во дворе под лучами теплого весеннего солнышка.
Уж не помню, как и о чем велся разговор, но случайно я спросил:
— А ты пирожное, Анечка, кушала?
Девочка подняла на меня свои голубые глазки и быстро ответила:
— Не… А что такое «пирожное»?
В дальнейшем разговоре оказалось, что и «ветчина», и «какао» — понятие Ане незнакомые. И только при слове «апельсин» ее бледные губки довольно улыбнулись.
— Это, дядя, я знаю. Это в книжке нарисовано — такое круглое, вроде мячика.
— Что с ним делают? — каким-то невольно сорвавшимся голосом спросил я.
— А я не знаю, — просто ответила девочка.[43]
— «Гражданин, вы арестованы»…
Боже мой! Опять эта фраза… Сколько раз пришлось мне выслушивать ее!..
На этот раз она была произнесена в моей маленькой комнатке в Орле. По приказанию из Москвы я опять был арестован и через 2 суток сидел в Центральной тюрьме ОГПУ, на Лубянке.
Те же картины опять стали проходить перед моими глазами — то же бесправие, тот же бездушный, жестокий механизм гнета и террора, те же камеры, переполненные придавленными страхом людьми.
Секундой мелькнула встреча с Сержем. Его похудевшее лицо невесело усмехнулось мне с высоты железной лестницы второго этажа.
— Боб, ты?
— Я… я… А ты здесь как?
— Да вот из ссылки, из Сибири, привезли этапом.
— А в чем дело?
— Да не знаю… Не забывают, видно!.. О Диме слышал? Расстрелян на острове в 1929 году…
Раздался чей-то окрик, и Серж скрылся в коридоре. Еще раз мелькнуло его лицо с деланной улыбкой, и он устало махнул рукой на прощанье.
В течение ближайших недель состояние моего зрение настолько ухудшилось, что мне удалось добиться осмотра врача и, благодаря счастливому стечению обстоятельств, попасть в больницу при Бутырской тюрьме.
Прошло три месяца, в течение которых я не только не получил обвинения, но даже не был допрошен.
Но вот, как-то поздно ночью, когда все уже спали, в палату вошла встревоженная сиделка.
— Кто здесь Солоневич?
Я отозвался.
— За вами из ГПУ приехали.
— А как: с вещами ехать или без вещей?
Сиделка ушла и через несколько минут появилась с таким же встревоженным врачом.
— Сказали — со всеми вещами. А зачем — не говорят. «Наше дело», ответили.
Делать было нечего. Я спустился вниз и сменил больничный халат на свое платье. Каптер, сам заключенный, смотрел на меня с искренним сочувствием.
— Ну, прощайте товарищ, — задушевно сказал он, пожимая мне руку. — Дай вам Бог.
Загудела машина, и в темноте ночи меня повезли на Лубянку.
Зачем?
Опять 4-й этаж. Опять, как 6 лет тому назад, «Секретный отдел». Следователь, маленький, сухой человек в военном костюме, стал быстро и резко задавать мне обычные вопросы.
— Да я столько раз отвечал на все это. Даже здесь, в этой комнате.
— Не ваше дело! — оборвал чекист. — Вы арестованный и обязаны отвечать на все вопросы. Скажите, с кем из молодежи вы встречались в Сибири, в Орле и при своих поездках?
— Да я только то и делаю всеми своими днями на воле, что встречаюсь с молодежью. Слава тебе, Господи, сам еще состою в этом почетном звании!
— Бросьте притворяться, — обрезал чекист. — Нас интересует, с кем из подпольной молодежи вы встречались. Перечислите нам фамилии этих лиц.
— Если вы спрашиваете про концлагерь — так там вся молодежь так или иначе контрреволюционна, конечно, по вашей оценке. А на воле я ни с кем таким не встречался.
— Ax, не встречались? — иронически скривился следователь. — А что такое СММ, вы не знаете?
— Слыхал, что это какое-то название группы молодежи, но подробней не знаю.
— Ах, тоже не знаете? И ни с кем из них не встречались? Так, так… И со скаутами и с соколами тоже не встречались?
— Что-то не приходилось.
— И что такое «Сапог» — не знаете?
— Да это шутливое название какого-то скаутского кружка.
— Ах, «шутливое»? А чем они сейчас шутят вам неизвестно?
— Нет.
— А с членами этого «Сапога» вы встречались за это время? Связь между вами продолжается?
— Дружба, конечно, остается. Но в Соловках и Сибири их не было.
— Значит, полная невинность? Ну, ну… У нас совсем другие сведения. Но не в этом дело. Не думайте, что мы вас забываем. Вот против вашей, как вы называете, «дружбы» мы-то и боремся. И этой «дружбы» мы вам проявить не дадим. Вы все у нас — как под стеклышком. Насчет своей дружбы и встреч забудьте!.. Можете идти.