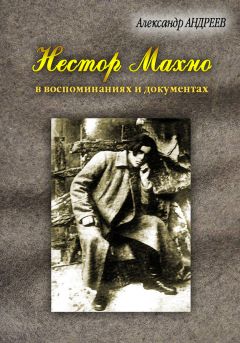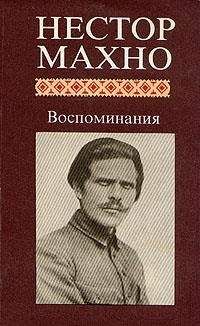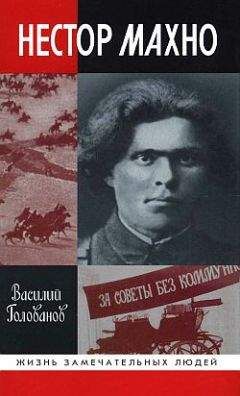Он был категорически против того, чтобы въезжать в село.
– Подскочим к мосту. Если кого-либо увидим, то расспросим, есть ли неприятель в селе; если же никого не увидим, то посмотрим со стороны на село и возвратимся к отряду, – сказал мне товарищ Щусь.
Однако другие повстанцы хотели побывать на своих улицах, посмотреть на стены своих домов. Это заставило нас, меня и Щуся, повернуть в сторону от моста и галопом подскочить к селу с противоположной стороны, в случае чего наиболее удобной для бегства.
На этой стороне села мы встретили нескольких крестьян. Бедняги, настрадавшись, бросились сразу же к нам. Но ни один из них не жаловался на свое положение. Лишь указывали нам на свои сожженные и разрушенные дворы, и то, когда мы их спрашивали: «Как ваш двор?» или: «Сожгли ли вас?» В этом лишь случае они указывали нам каждый в сторону своего двора и, пожимая плечами, приговаривали:
– Ничего, перебедуем, а все-таки не станем на сторону гетманцев и их союзников, немцев и австрийцев. Будем страдать, а будем против них, вместе с вами…
Слыша от крестьян эти простые, искренние слова, я радовался и, отбросив все расспросы о селе, начал расспрашивать их о том, какие силы врагов были в действительности в селе, когда они зажигали его?
– Трудно сказать вам, Батько, нам нельзя было присматриваться, нас избивали, – ответили мне крестьяне. – Во всяком случае, мы должны вам сказать, что немецкие и австрийские солдаты мало палили наши дворы. Их палили наши украинские буржуи из хуторов да из немецких колоний.
– Не знаете, много ли сгорело всех дворов в селе?
– Шестьсот восемь дворов, – получил я ответ.
– А под лесом или в центре села, на площади, нет ли теперь немецких солдат?
– Ни одной души ни солдат, ни варты нету. Все уехали по вашим следам, как говорили, в погоню за вами, – ответили мне крестьяне.
Мы, повстанцы, переглянулись между собою. Я предложил:
– Проскочим, сынки, через село, что ли, чтобы лучше его развалины разглядеть?
– Проскочим, Батько!
Затем я обратился к крестьянам и пожелал им держаться тех намерений неподчинения произволу, которые они мне только что высказывали, и ожидать от нас оружия и общего призыва в поход на врагов. Эта группка крестьян бодрилась и радостно приветствовала наше обещание явиться к ним с оружием для них. Мы, попрощавшись с ними, пришпорили своих коней и вскочили группками, по пять-шесть человек в каждой, в речку. Переплыли последнюю, вскочили в улицы села и понеслись по ним галопом. Но, по мере того как мы приближались к подлесью, мы (как после выяснилось из наших объяснений друг другу) осаждали бег лошадей, стараясь присмотреться вперед и по сторонам, нет ли врагов.
В селе крестьян почти не было. А если кто-нибудь и был, то сидел в своем дворе под разваленными стенами хаты. Многие еще не возвратились из соседних сел и деревушек. Проезжая улицы одну за другою, мы изредка встречали перебегавших через них собак, нехотя, с грустью лаявших на нас, проскакивавших мимо них, или натыкались на бегавших, видимо ничего не евших, хрюкавших свиней и ревевших телят.
Так мы, мало кого замечая в селе, проскочили большую половину его и выскочили на одну из площадей, ведущую прямо в лес. Здесь нас встретил поп с группой, человек в 20, крестьян. Товарищ Щусь с тремя бойцами подскочил к этой группе и расспросил ее, откуда они идут.
Оказывается, поп и его прислужники узнали, что мы приехали в село, еще тогда, когда мы были по ту сторону речки, и, схватив свой крест и два церковных знамени, собрал вокруг себя несколько крестьян-старичков и пошел к лесу, чтобы встретить нас.
Когда Щусь подскочил ко мне и доложил об этом, я еще более озлился на этого попа за его дурачество и, волнуясь, задумался, что ему, попу, уже раз предупрежденному не заниматься глупостями, сделать.
Щусь, видя меня в состоянии раздумья, предложил мне распорядиться, чтобы повстанцы выпороли попа.
От этого я отказался, заявив, что в такой момент неудобно так поступать с ним.
А поп желал подойти ко мне с намерением что-то сказать мне. Я отказался от этого и передал ему через Щуся последнее свое распоряжение: никогда не выводить навстречу мне крестьян и самому не подходить ко мне с крестом в руке.
Как товарищ Щусь передавал мне, поп обещал больше этого не делать, но теперь просил меня принять хотя бы хлеб-соль от него и от окружавших его крестьян.
Я категорически и от хлеба отказался.
И поп повел своих людишек обратно к церкви. А мы собрались и шагом спустились по направлению к речке, где был брод, который легко было перейти всадникам, не замочившись.
Теперь по дороге к речке мы видели уже больше крестьян. Они сидели, каждый под стенами своего сгоревшего дома, кто один, а кто окруженный детками, что-то рассказывая им. Когда замечали нас, поднимались и, снимая шапку, помахивали ею в знак приветствия. А детки подбегали к улице и махали своими ручонками. Некоторые сидели, понурив голову, задумчиво и печально глядя в землю, и откликались лишь на зов знавших их повстанцев.
Здесь картина была более жуткая. Она задела мое сердце. Я почувствовал ужасную боль и не мог несколько минут ни с кем ни словом обмолвиться…
Это мое состояние, состояние расчувствованности, от которого я, став во главе отрядов, все время старался быть свободным, настолько сдавило меня, что я чуть было не заплакал по примеру товарища Щуся и других повстанцев.
Скоро показалась речка Волчья и спуск ее к берегу. Я подал команду: «Повод!» Мы быстро вскочили в ее холодную осеннюю воду и остановились лишь на другом берегу.
Затем мы поднялись в гору и на дороге, ведущей к имению Серикова, где стоял и ждал нас наш отряд, мы еще раз остановились, чтобы посмотреть на развалины села Дибривки.
У троих из нас были бинокли. Они ходили из рук в руки. Каждый из нас хотел увидеть кроме развалин во дворах этого села еще что-то необъяснимое, но определенно вызывавшее в каждом из бойцов бурю гнева и мести к своим врагам.
Стояли мы на этой дороге долго. Бойцам хотелось стоять и стоять и смотреть на село, хотя все мы были мокрые и мерзли. К счастью, лошади никак не хотели стоять. Они тоже перемерзли и проголодались. Они рванулись в путь, словно зная, что место стоянки недалеко, что они там поедят и согреются.
Мы тронулись с места и теперь уже неслись бешено, ни о чем не говоря между собою, глядя лишь вперед и по сторонам, чтобы не влететь в засаду к врагам.
Когда мы подскакивали к имению Серикова, оставшийся в нем наш отряд был весь усажен на подводы и на лошадей и начинал вытягиваться в сторону села Дибривки.