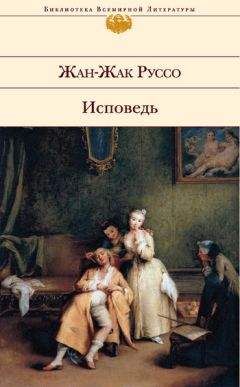Тогда, то есть в первую половину 60-х годов, он представлял из себя молодого барича благообразной наружности и внешнего изящества, с манерами и тоном благовоспитанного рантье. Он и был им, жил при матери в собственном доме (в Почтамтской), где я у него и бывал и где впервые нашел у него молодого морского мичмана, его родственника (это был Станюкович), вряд ли даже где числился на службе, усердно посещал театры и переделывал французские пьесы.
Эта беспечная жизнь внезапно прекратилась. Из-за долгов его брата дом надо было продать и превратиться в литератора, живущего на гонорар с прибавкой какой-то службы.
В годы моей «Библиотеки» он был дилетант, любитель театра и беллетристики, без всякой политической окраски, но — как все тогда — с либеральным образом мыслей, хотя и был сыном бессарабского генерал-губернатора, генерала Федорова, одного из администраторов николаевского типа.
Ему и под старость, когда он состоял номинальным редактором у Суворина, дали прозвище: «Котлетка и оперетка». Но в последние годы своего петербургского тускло-жуирного существования он, встречаясь со мною в театрах, постоянно повторял, что все ему приелось, — сонный, тучный и еще более хромой, чем в те годы, когда барски жил в доме своей матери на Почтамтской.
Буренин приехал из Москвы. Там он как стихотворец сошелся с Плещеевым и, вероятно, от него и был направлен ко мне. А с Плещеевым я уже был знаком по Москве.
Он уже помещал сатирические стихотворения в «Искре», но, живя подолгу в Петербурге, еще не распрощался с Москвой, где он учился в школе живописи и ваяния и вышел оттуда со званием архитекторского помощника.
По тогдашнему тону он совсем не обещал того, что из него вышло впоследствии в «Новом времени». Он остроумно рассказывал про Москву и тамошних писателей, любил литературу и был, как Загорецкий, «ужасный либерал». Тогда он, еще не проник к Коршу в «Петербургские ведомости», где сделался присяжным рецензентом в очень радикальном духе. Мне же он приносил только стихотворные пьесы.
По критике он еще ничего не писал у меня, но я относился к нему всегда весьма благожелательно, и личные наши отношения были самые мирные и благодушные.
И по возвращении моем в Петербург в 1871 году я возобновил с ним прежнее знакомство и попал в его коллеги по работе в «Петербургских ведомостях» Корша; но долго не знал, живя за границей, что именно он ведет у Корша литературное обозрение. Это я узнал от самого Валентина Федоровича, когда сделался в Париже его постоянным корреспондентом и начал писать свои фельетоны «С Итальянского бульвара». Было это уже в зиму 1868–1869 года.
С удовольствием упомяну еще об одном сотруднике, который только у меня, в «Библиотеке», стал вырабатывать себя как своеобразною умственную физиономию.
Это был некто Варнек, более случайный, чем профессиональный писатель, уже не первой молодости, когда я с ним познакомился, имевший какие-то занятия вне журнала, кажется, по педагогической части.
У него я никогда не бывал. Жил он на Васильевском острове; по своему физическому складу, тону, языку, манерам смахивал на совсем обруселого инородца.
Он писал на оригинальные темы, по вопросам общественной психологии, и своим очень характерным языком, немножко расплывчато, но умно, наблюдательно, радикально — в смысле этического критерия.
Одна из пущенных мною в 1865 году передовых статей «Библиотеки» (которые появлялись всегда без подписей авторов) была написана им.
Что он писал впоследствии — я не знаю; если он уже умер, то в последнее время. И помнится мне, что только всего один раз судьба столкнула нас в Петербурге, и он тогда смотрел уже стариком. Он, во всяком, случае, был старше меня.
Мне остается остановиться здесь на некоторых из сотрудников журнала, уже имевших тогда имя.
П. И. Вейнберг (как я сейчас упомянул) в эти годы ушел из журнализма, и я не помню, чтобы он в течение этих двух с лишком лет обращался ко мне с предложением участвовать в журнале в качестве заведующего отделом или одного из главных сотрудников. В «Библиотеку», еще при Писемском, прошел его перевод одной из драм Шекспира; но печатался он при мне.
Вероятно, он давал нам и стихотворения, но постоянного сотрудничества по какому-нибудь отделу что-то не помню.
Евгения Тур, то есть графиня Салиас (сестра Сухово-Кобылина), работала в «Библиотеке» довольно долго; но до смерти ее я никогда ее не видал. Она жила тогда постоянно в Париже и очень усердно делала для нас извлечения из французских и английских книг. От нее приходили очень веские пакеты с листами большого формата, исписанными ее крупным мужским почерком набело.
Как сотрудница она была идеальная. И выбор того, что она предлагала мне, показывал, что она держалась либеральных симпатий.
Лесков видал ее в Париже и рассказывал мне много и про нее, и про ее тамошний кружок. Она дружила с польской эмиграцией и возмущалась нашим режимом в Варшаве и Вильне.
Раз она, на первых порах ее сотрудничества, прислала мне с каким-то поручением Суворина, которого я тогда в первый раз и увидал.
Он работал уже в то время у Корша, исполнял секретарские обязанности и вырабатывал из себя того радикального «Незнакомца», который позднее приводил в восхищение тогдашнюю оппозиционную публику.
У графини Салиас он и начинал в Москве, в ее журнале, который должен был так скоро прекратиться. К ней он явился еще совсем безвестным провинциалом из народных учителей, вышедших из воронежского кадетского корпуса.
Польские дела (как я упомянул и выше) сблизили меня с Н. В. Бергом — тоже москвичом с головы до пяток, из гоголевской эпохи.
Те, кто хорошо знал Николая Васильевича (как, например, Вейнберг или наш общий приятель проф. И. И. Иванюков), считали его одним из типичнейших представителей полосы 40—50-х годов.
Таких писателей теперь уже и совсем нет, да и тогда было немного.
Родом он из обруселой баронской семьи, но уже дворянин одной из подмосковных губерний, он сложился в писателя в Москве в тогдашних кружках, полюбил рано славянскую поэзию, как словесник водился много с славянофилами, но не сделался их выучеником, не чурался и западников, был близок особенно с графиней Ростопчиной»
В его характере сидела всегда наклонность к поездкам, к впечатлениям войны, ко всему чрезвычайному, живописному и тревожному.
Он приобрел известность своими записками о Севастопольской осаде, потом ездил к Гарибальди, когда тот действовал в Ломбардии и на итальянских озерах. Не мог он не заинтересоваться и польским восстанием. По-польски он давно выучился и переводил уже Мицкевича.