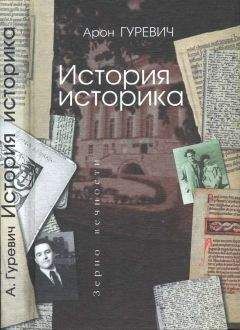Итак, отпали ограничения, которые, несмотря на поглощенность исследовательской работой, не могли не тяготить меня, лишали тех возможностей, масштабы которых я ощутил только начиная с 1988 года. Разумеется, это произошло довольно поздно: мне шел шестьдесят пятый год, и я не обладал уже свежестью и остротой восприятия, которые необходимы для того, чтобы ощутить богатство и разнообразие мира. Кроме того, на протяжении двенадцати лет нового периода моей жизни, когда для меня открылся западный мир, от Лондона и Парижа до Нью — Йорка и Иерусалима, любоваться им мне был отпущен судьбою вдвое меньший срок, ибо после 1993 года мир Божий в своих зримых очертаниях уже окончательно ускользнул от меня.
Для человека, изучающего историю Запада, посещение его в высшей степени важно. Мало разглядывать фотографии Шартрского собора, собора Парижской Богоматери или собора св. Петра, надо увидеть эти каменные громады, поражающие как своими размерами, так и легкостью конструкций, богатством скульптурных групп и деталей, необычайным светом, проникающим сквозь витражи.
Все это я воспринимал прежде всего как медиевист. Я соприкоснулся с тем миром, который изучал на протяжении нескольких десятков лет. Не знаю, стали бы иными мои книги, к этому времени давно напечатанные, если бы они были написаны человеком, который во все это окунулся, мог бы посещать Ватиканскую библиотеку, смотреть фрески и росписи Микеланджело и пр.? В 1991 году я повидал остатки викингских лагерей в Дании, потоптался в таком военном лагере в Треллеборге и понял, что и теперь ничего не изменил бы в своей книге «Походы викингов», изданной в 60–х годах (там воспроизводились фотографии, заимствованные из других источников, и даже планы этих удивительных лагерей); тем не менее, впечатление было колоссальное.
Я думаю, что историку необходимо соприкоснуться с теми историческими местами, о которых он пишет, физически это пережить. В особенности я в этом убедился, когда совершенно неожиданно для себя смог посетить Исландию, расположенную так далеко от Западной Европы, не говоря уже о Москве.
Около 1960 года группа учеников А. И. Неусыхина подарила ему к шестидесятилетию альбом с нашими фотографиями и шутливыми стихотворными подписями. Я запомнил, естественно, ту, что касалась меня:
Путь из Исландии в Калинин,
Конечно, бесконечно длинен.
Сквозь жизненные передряги
Гуревич выбился в варяги
И ищет там иммунитет,
Где даже феодалов нет.
Автор — А. С. Кан
Да, путь из Исландии в Калинин, действительно, бесконечно длинен, и все‑таки в 1991 году я попал на конференцию «От саги к обществу» в Рейкьявикском университете, и это было любопытное научное собрание. Но я летел туда не для того только и прежде всего не для того, чтобы послушать доклады и выступить самому. Мне нужно было попасть на Скалу Закона. Я сказал Гисли Палссону, антропологу из Рейкьявика: «Гисли, вам грозит, что я отсюда не уеду, если меня не свозят на Скалу Закона». — «Вы ее увидите».
В 1991 году я еще мог ее видеть. Меня повезли на машине — это далеко от Рейкьявика, в пустынном месте. На берегу огромного озера тянется высокая и непомерно длинная, около километра, если не больше, базальтовая или из какой‑то другой твердой породы скала. С вершины этой скалы законоговоритель, т. е. единственное должностное лицо в свободной Исландии, какой она оставалась с конца IX до 60–х годов XIII века, каждый год произносил перед участниками альтинга какую‑то часть положений древнеисландского права, хранившегося в памяти законоговорителей.
А внизу стояла масса бондов — свободных поселян, которые собирались заблаговременно со всех четырех концов Исландии (в административно — судебном отношении она делилась на четыре «четверти») и принимали участие в судебных разбирательствах. Когда я подошел к этой скале, я подумал: как это все происходило? Законоговоритель наверху, далеко, рупоров ведь не было. И я крикнул. Оказалось, что там неимоверной силы эхо, так что акустическая проблема этого, как его иногда называют, древнейшего в Европе парламента в X веке была решена.
Это было удивительное переживание: я, влюбленный в исландские саги, в рассказы о древних исландцах, ощутил, что действительно рядом со мной тени людей, фигурирующих в «Саге о Ньяле» или в «Саге о Гисли». Я говорил уже о М. И. Стеблин — Каменском, в книге которого «Культура Исландии» рассказывается, как в гостинице «Сага» в Рейкьявике автора посетил призрак исландца XI века. У меня не было такой беседы, но сопереживание с древними скандинавами произошло не только потому, что я изучал источники, а потому, что физически ощущал себя в этой ни с чем не сравнимой стране.
Я был там летом, когда солнце вообще не заходило, и песок там черный. В этой стране, где саги хранятся как в рукописях, так и в памяти народа, вообще все удивительно и совсем не так, как в других странах Европы, гораздо более «цивилизованных», богатых, обставленных дворцами и небоскребами. Воздух, который я здесь вдыхал, преисполнял меня сознанием, что сага и ее герои не вполне отчуждены, несмотря на тысячелетие, которое отделяет меня от них.
Сказать, что впечатления, полученные на Западе, сыграли огромную роль в моем духовном росте, трудно: в шестьдесят пять лет растешь уже не в том направлении, в каком рос до того. Но они обогащали. Конечно, меня не покидало сожаление о том, что хотя в определенном смысле жизнь прошла, разумеется, не впустую, но в тисках ограничений, от меня не зависевших.
Только теперь, только в шестьдесят с лишним лет я увидел статуи донаторов Наумбургского собора, меня дважды возили туда в разные годы. Все видели фотографии статуй Эккехарда, Уты и других князей, которые стоят в приделе часовни собора в Наумбурге в Саксонии. Но когда я вошел в эту капеллу, увидел эти человеческие фигуры, а рядом резные кресла, где сидели во время богослужения патриции, знатные граждане города, как бы соучаствуя в общении этих донаторов с Богом, меня охватило совершенно особенное чувство. Я вглядывался в эти лица и фигуры и не мог наглядеться, насытиться.
Конечно, это не портреты в обычном, общепринятом смысле, хотя бы потому, что мастер, который сотворил статуи Эккехарда, Уты и остальных супружеских пар Наумбургского собора, работал через несколько десятков лет после того, как донаторы вложили свои деньги и доверие для того, чтобы отстроить или перестроить собор. Он их не видел и к внешнему сходству не стремился. Он хотел выразить те чувства, которые испытывали донаторы, совершающие благочестивое дело, передать черты характера живых мужчин и женщин той эпохи. Человеческие эмоции, ориентированные на высшее, выражены с необычайной тонкостью и гениальностью.