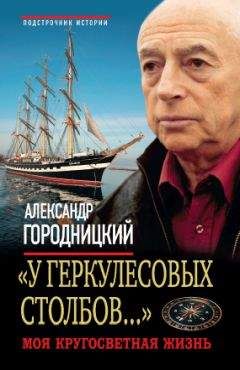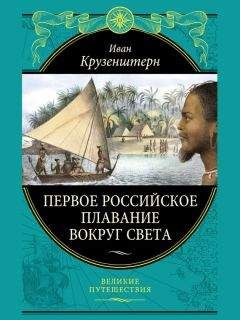Характер его не был легким – порой поэт был вспыльчив и несдержан. Иногда, выпив, становился вдруг необоснованно агрессивен, мог неожиданно за столом оскорбить человека или без всякой видимой причины выставить его из дома. Или, наоборот, обнявшись на людях с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, к которому тогда и подойти-то боялись, на другой день обняться в ресторане с таким человеком, которому в трезвом виде не подал бы руки. Игорь Губерман вспоминал, как в середине 60-х Самойлов выставил его со своего семинара, когда Игорь прочитал свои «гарики», видимо, приняв все это за намеренную провокацию. Справедливости ради следует сказать, что, когда Губерман вернулся из заключения и его никто нигде не прописывал, Давид Самойлов прописал его у себя в Пярну.
Одна питерская поэтесса, живущая теперь в Израиле, моя давняя приятельница и однокашница по литературной студии Глеба Семенова во Дворце пионеров в Ленинграде, прочитав мои воспоминания о Самойлове в книге «И вблизи, и вдали», написала мне в письме: «Мне известно, что Давид Самойлов приложил руку к уничтожению Веры Федоровны Френкель, удивительной переводчицы, открывшей и замечательно переведшей Тадеуша Ружевича. Он, Самойлов, был редактором этого составленного ею сборника. Он раздал стихи Ружевича, уже переведенные ею, своим друзьям. Этот рассказ я слышала от самой Веры. Для нее это был сокрушительный удар, после которого она уже не оправилась. Переводы Веры были такого высокого класса, что когда они читались в Ленинградском отделении Союза писателей, то поразили всех… И когда ты пишешь, что Иосиф Бродский пренебрежительно отозвался о Слуцком и Самойлове, то думаю, что понимание их ограниченной порядочности также диктовало ему эту оценку. Первые поэты – придворные поэты, хотели они этого или нет».
Зная сложную, постоянно конфликтную ситуацию с раздачей переводов в 70-е годы в Худлите, оставляю достоверность истории с переводами Ружевича на совести автора письма. Что же касается «придворных поэтов», то уж никак ни Слуцкого, ни тем более Самойлова к ним отнести нельзя, сколько на них ни обижайся. Незаслуженно обидеть любого человека, особенно по пьянке, Самойлов мог, поступить непорядочно – никогда. Все его оскорбительные для собеседников реплики были, как правило, случайными и недолгими всплесками отрицательных эмоций на фоне неизменной доброжелательности.
Когда на похоронах Самойлова я слушал речи многочисленных друзей, соратников и почитателей, то вдруг поймал себя на том, что испытываю то забытое детское ощущение, которое появлялось всякий раз, когда доводилось читать особо полюбившуюся книжку, иллюстрированную рисунками художника. На этих рисунках любимые герои были как бы и похожи на самих себя, то есть, конечно, на мое о них представление, и вроде бы не очень. И я подумал, что у каждого из близких друзей Давида Самойлова должно быть подобное ощущение, ибо у каждого из них в сердце остался такой же единственный образ его, похожий и непохожий на другие. И у меня тоже – свой, не претендующий на объективную фотографическую достоверность…
Давным-давно, лет двадцать назад, в Опалихе, Дезик сказал мне как-то утром: «Алик, не думай, что поэт или писатель – это «кто-то что-то написал». Писатель – это прежде всего образ жизни. Вот ты – не писатель, ты совслужащий – боишься опоздать на работу и торопишься на электричку. А вот я – писатель и спокойно сяду сейчас опохмеляться».
Впрочем, к науке Давид Самойлов относился с уважением. В 82-м году он прислал мне теплое письмо, где написал: «Только что от Феликса (Зигеля. – А. Г.) узнал о твоей успешной и блестящей защите докторской диссертации. Ничего не понимая в науке, но зная тебя, уверен, что решение научного совета было справедливым. Ты один из немногих писателей, которые хоть что-то знают. Все свое незнание употребляй для стихов и песен, которых тебе желаю. Желаю тебе всего доброго. Всегда к тебе расположенный Д. Самойлов».
Что касается самого Самойлова, то он, безусловно, был прирожденным поэтом и писателем. И тогда, когда лежал со своим пулеметом под деревней Лодьва «на земле холодной и болотной», и когда за долгие годы официального непризнания и каторжной литературной поденщины не написал ни одной строчки «для почестей, для славы, для ливреи». И тогда, когда остался чужд соблазнительной возможности стать «властителем дум» с помощью политизированных стихов. Мне выпало редкое счастье разговаривать с ним и слушать его, и я могу сказать, что он был одним из крупнейших мыслителей нашего времени, подлинным российским интеллигентом, внешняя скромность и мягкость которого сочетались с непоколебимой нравственной позицией. И при всем том он был оптимистом, что особенно редко в наши дни. С уходом этого большого художника его поэзия начала новую жизнь, без него. И жизнь эта будет долгой.
Уже после смерти Самойлова в его черновиках были найдены лирические стихи, которые он при жизни не опубликовал, считая, возможно, что они не заслуживали этого:
Тот запах вымытых волос,
Благоуханье свежей кожи,
И поцелуй в глаза, от слез
Соленые, и в губы тоже.
И кучевые облака,
Курчавящиеся над чащей,
И спящая твоя рука,
И спящий лоб, и локон спящий.
Повремени, певец разлук, —
Мы скоро разойдемся сами.
Не разлучай уста с устами,
Не разнимай сплетенных рук.
Сергей Никитин написал песню на эти стихи, и они совершенно неожиданно приобрели новое пронзительное звучание. Минуло уже более двадцати лет со времени ухода Самойлова. Необратимо изменился мир вокруг. Иногда я думаю, а как бы Дезик реагировал на сегодняшний распад огромной империи, думал ли о том, что могила его окажется за границей. И каждый раз, когда я вспоминаю о нем, в моем сердце болью отзываются строчки песни:
Не лги, не лги, считая дни,
Кукушка, – мы живем часами.
Певец разлук, повремени, —
Мы скоро разойдемся сами.
Повремени, певец разлук, —
Мы скоро разойдемся сами.
Не разлучай уста с устами,
Не размыкай сплетенных рук.
Все переплетено, все, оказывается, чрезвычайно близко. Эта связь, этот стык времен и есть моя тема.
Натан Эйдельман
Менее чем за два месяца до неожиданной и безвременной кончины Натана Эйдельмана мы с ним вместе с женами были в Варне, куда поехали отдохнуть, хотя из этого ничего и не получилось – частично из-за плохой погоды и неналаженного быта «дикого» существования в этой, уже изрядно обнищавшей на пути социалистического развития стране, частично – из-за не знающего меры гостеприимства хозяев, составившего изрядную угрозу для здоровья.