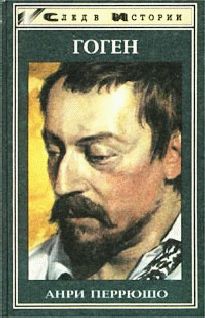От Гогена ничего не осталось. Приобретенный Варни Дом наслаждений стоял необитаемый, на запоре, пока вскоре его не снесли. Ванну на открытом воздухе разрушили, колодец засыпали.
От Гогена не осталось ничего, кроме воспоминания. Неотвязного, как некоторые мечты...
МАНАО ТУПАПАУ!
ПОСМЕРТНАЯ СУДЬБА
После смерти Гогена по Таити и Маркизским островам поползли беспокойные слухи.
Люди выражали удивление "поспешностью", с какой разбазарили имущество художника, говорили о "розданных рисунках", об "исчезнувших рукописях"[228]. Как только Монфред узнал об этом, он немедленно обратился в Министерство колоний, и оно в начале 1904 года приказало провести расследование и вернуть во Францию рукописи и произведения, которые не были проданы.
Среди рукописей, о судьбе которых тревожился Монфред, была "Ноа Ноа".
"Я хочу успокоить Вас, - писал ему в марте 1904 года Виктор Сегалан, ...г-н Пети намеревался перелистать эту книгу, которую ему доверил сборщик налогов. Но потом губернатор тяжело заболел и поспешно уехал. Рукопись по недосмотру оказалась среди его багажа, и губернатор, которому это стало известно и который в настоящее время почти что при смерти, заявил, что по приезде во Францию немедля вернет рукопись по принадлежности".
Но Эдуар Пети так и не вернулся в Европу. Когда Сегалан сообщал эти сведения Монфреду, губернатор уже умер в Австралии. Его семья передала "Ноа Ноа" в Министерство колоний, куда несколько позже из Папеэте доставили "пачку писем и бумаг из наследства Гогена".
А тем временем Пикено успел потребовать у губернатора Пети, чтобы сержант Клавери был отозван из Атуоны - "за плохое исполнение административных обязанностей, - писал Пикено, - и за то, что без моего ведома поддержал судебное преследование против господина Гогена". Управитель нарядил следствие, из которого, "со всей очевидностью, выяснилось, что ряд фактов, на которые указывал покойный, подтвердился".
Пети удовлетворил просьбу своего подчиненного и сместил Клавери. Вскоре Пикено сложил с себя временные обязанности управителя. А на место Пети назначили другого губернатора. И в апреле 1904 года, к удивлению и негодованию Пикено, сержант Клавери вновь водворился в Атуоне. И тут, казалось, дух Гогена ожил в бывшем управителе Маркизских островов.
"Я нахожу, что меня незаслуженно дезавуировали, и почтительно, но решительно против этого возражаю, - тотчас написал он новому губернатору. Имею честь, господин губернатор, просить Вас довести мой протест до сведения господина министра колоний, к высшему правосудию которого я и взываю. Если, однако, глава нашего департамента посчитает, что я неправ, я буду признателен ему, если он позволит мне воспользоваться моими правами на отставку и пенсию. Свободный от всяких административных обязательств, я смогу тогда, господин губернатор, опираясь на доказательства, объявить во всеуслышание обо всех притеснениях и злоупотреблениях, в которых повинны жандармы наших поселений, в частности, на Маркизах".
Губернатор немедля ответил Пикено:
"Имею честь сообщить Вам, что должен призвать Вас не выходить за рамки тех обязанностей, которые возложены на Вас в местной администрации. Полгода назад освобожденный по служебной надобности от должности управителя Маркизского архипелага, которую вы временно исполняли, Вы в настоящее время не должны иметь никакого касательства к делам этого архипелага и в особенности Вам надлежит воздерживаться от замечаний по поводу решений, которые я нахожу нужным принимать в интересах службы. Прошу Вас в дальнейшем соблюдать большую осмотрительность. С другой стороны, считаю своим долгом уведомить Вас, что с ближайшей же почтой буду просить о Вашем выходе в отставку, как только Вы будете иметь на нее право".
Три недели спустя Клавери дали чин унтер-офицера.
Маркизским жандармам не суждено было забыть Гогена. Но отношение их к нему с годами полностью переменилось. Выйдя в отставку и поселившись в департаменте Верхняя Сона, Шарпийе с умилением вспоминал "мэтра Поля Гогена", "выдающегося человека", "несчастного великого художника", с которым он имел счастье встречаться на Маркизах. "Это был человек, каких я в жизни не видывал, - рассказывал он. - Прозорливец".
Клавери чтил память художника еще более пылко. Выйдя в отставку, он держал табачную лавчонку в Монгайаре, в Верхних Пиренеях, и благоговейно показывал покупателям маленькую витрину, где хранились деревянные скульптуры того, кого он когда-то преследовал и кто теперь сделался его кумиром"[229].
Однако на островных миссионеров эта запоздалая благодать не снизошла. Один из них, когда-то знавший художника, писал в 1934 году преподобному отцу Анри де Лаборду: "Какую бы ценность ни представляли его произведения, я хотел бы, чтобы имя этого жалкого человека было предано забвению. Как видите, я не сторонник того, чтобы делать различие между автором и его произведениями. Должно быть, я слишком долго жил поблизости от этого господина"[230].
Жестокие слова. Впрочем, не более жестокие, чем официальный отчет о деятельности миссионеров на Маркизах, который всего лишь год спустя после смерти художника был послан во Францию. Администрация островов сменилась, и теперь точка зрения властей совпадала с точкой зрения Гогена.
"Конгрегация Пикпюс, - говорилось в одном из этих донесений, занималась единственно тем, чтобы утвердить на Маркизах свою власть, приобретая земные богатства с помощью религиозной пропаганды под предлогом воспитания, утверждения морали и насаждения французского влияния... Присутствие конгрегации на Маркизских островах - помеха материальному, интеллектуальному и моральному прогрессу архипелага".
Один из управителей архипелага отмечал также: "Туземцы прежде всего привыкли бояться миссионеров и жандармов, причем страх перед одними подкрепляется страхом перед другими". Гоген несомненно безоговорочно подписался бы под этими донесениями"[231].
Бывают, однако, странные причуды судьбы. Несколько лет назад среди самых прилежных учениц в школе сестер в Атуоне числились правнучки Гогена и Мари-Роз Ваэохо.
И в Папеэте именем художника названа не только одна из улиц, но и один из коллежей.
*
Возвратимся в Европу. Только 23 августа 1903 года из письма Пикено Монфред узнал о кончине Гогена. Сначала он сообщил об этом Воллару и Фейе, потом написал Метте.
Воллар поспешил ответить Монфреду:
"Если случайно у Вас есть произведения Гогена, предназначенные им для продажи, я буду Вам чрезвычайно обязан, если Вы окажете предпочтение мне. И еще одно: я говорил Вам, что по моему договору с Гогеном была установлена плата двести франков за каждую картину. Позднее в одном из моих писем я высказал Гогену готовность платить по двести пятьдесят франков за полотно. Но в письме, еще более позднем, копия которого у меня сохранилась, я сообщил ему, что, принимая во внимание нынешнее состояние дел, я вынужден придерживаться нашей взаимной договоренности о двухстах франках".