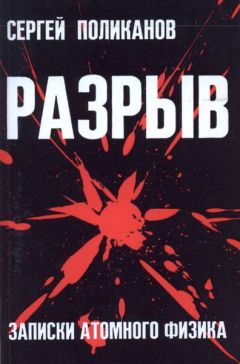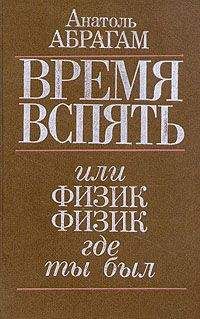На всех факультетах и во всех лабораториях (ну, почти во всех) царил хаос. Я забыл сказать, что главным вдохновителем всей этой свистопляски был не кто иной, как великий кормчий — Мао Цзе-Дун.
Стареющий Жан Поль Сартр не мог, конечно, удержаться от того, чтобы не полезть в эту (словесную) драку и не окунуться в источник молодости, бегая по митингам и превосходя юнцов резкостью и нелепостью своих заявлений. В одной статье он напал особенно злобно на своего школьного товарища профессора коллежа и знаменитого социолога Раймонда Арона (Raymond Aron). Хотя я и не разделял политических взглядов Арона, я уважал его ясный и острый ум и твердость его убеждений и был к нему привязан. В той же статье Сартр описал свой идеал университетского образования, который, хотя и был во всем противоположным тому, который я ненавидел в студенческие годы, был еще хуже. Я не выдержал и написал ему длинное злое письмо, на которое не ожидал и, конечно, не получил ответа. Арон, которому я послал копию письма после смерти Сартра и, как оказалось, незадолго до его собственной, ответил кратко: «Мне очень понравился урок, который вы ему дали; он его заслуживал». Я вхожу во все эти подробности, потому что во французской версии я поместил это письмо целиком, но здесь его опускаю, не желая надоедать русскому читателю нашими французскими распрями.
Свистопляска закончилась так же внезапно, как началась. Снова появился бензин, в котором была нехватка из-за забастовок, возникших через несколько недель после начала беспорядков, и парижане разъехались на каникулы.
У нас в Отделении физики, в полном контрасте со столпотворением в университетских лабораториях и в НЦНИ, ничего особенного не произошло. Весь мой народ продолжал работать, как ни в чем не бывало. Было несколько митингов и пламенных речей, которые никого не воспламенили. Самые «революционные» из ораторов скоро оказались самыми усердными карьеристами. Я созвал собрание всех сотрудников моей собственной лаборатории и попросил высказаться всех желающих. Были недовольные распределением жидкого гелия или квартальных премий, но были они и до «революции» и наверное существуют по сей день.
Было, однако, на собрании предложено одно нововведение, которое я приветствовал. Это было создание на уровне каждого отделения, департамента, лаборатории, секции советов, избираемых служащими и заседающих под председательством начальника соответствующего отделения. Эти советы отличались от профсоюзов тем, что не занимались защитой таких интересов служащих, как зарплата, продвижение по службе, часы работы, отпуска и т. д. Советы следили исключительно за улучшением организации, качества и производительности работы.
Именно с помощью советов я смог, наконец, успешно решить наболевшую проблему, связанную с «автономной лабораторией прикладной физики», которую я раньше уподобил туманности, к сожалению, никакими яркими созвездиями не блиставшей. Частью ее программы были работы по магнитогидродинамике. Мне лично было не совсем ясно, куда они вели, но было очевидно, что они стоили 11 миллионов франков в год. Вся их важность заключалась в том, что ими очень интересовалось «Электрисите де Франс» (Electricité de France), которое снабжает страну электричеством. Мы сговорились позавтракать вместе с начальником исследований «Электрисите де Франс», чтобы поговорить об этом. За завтраком он мне подтвердил, что его учреждение действительно очень заинтересовано работами по магнитогидродинамике, которые велись в Сакле. «Я страшно рад это слышать. Как будем делить бюджет? Пополам?» — «Шутите, профессор Абрагам?» — «Нет, серьезно, сколько вы готовы платить?» — «Дорогой профессор Абрагам, бюджетную статью по магнитогидродинамике мы давно закрыли; я не могу вам заплатить ни одного сантима». Мне оставалась только закрыть и нашу статью.
Но, кроме магнитогидродинамики, была еще одна проблема — посерьезнее — с этой злополучной лабораторией. Они там проводили исследования по ядерному синтезу, которые дублировали работы департамента, чьей ответственностью это являлось. Я принял трудное решение, что «Карфаген должен быть разрушен», т. е. лаборатория упразднена. Это оказалось сложной операцией, которую было бы трудно довести до успешного конца без сочувствия и содействия советов. Я назначил ответственным по операции Жана Комбрисона, и он справился со сложной задачей перетасовки персонала исчезающей лаборатории по разным местам в отделении, терпеливо, умно и гуманно. С каждым служащим он имел отдельный разговор в присутствии представителей советов, чтобы выяснить его желания, способности и квалификацию. Всех удалось устроить. Хоть этим пресловутый май 1968 года оказал пользу.
Однако с самого начала профсоюзы отнеслись враждебно к созданию советов, в которых они видели соперников своему влиянию и всячески старались уменьшить их значение; это им в конце концов удалось, советы не были формально упразднены, но роль их постепенно сошла на ноль.
В конце сентября 1970 года (за несколько месяцев до прекращения моей директорской деятельности, о чем я еще тогда не знал) я задумал план свободы перемещений в моем отделении и изложил его в подробном письме всем руководителям отделения (полный текст его находится в моей книке: «Reflexions d'un physicien» она же «Reflections of a physicist»). Здесь я кратко изложу его суть. Каждому физику КАЭ, желающему изменить направление своих работ, должна была быть дана возможность сделать это эффективно и без риска.
Я предлагал назначить в каждом подразделении ответственного за «гостеприимство», У которого кандидат, желающий переменить работу, мог бы получить конкретные сведения о деятельности этого отделения. Эта информация должна была делаться на нескольких уровнях: быть краткой при первом контакте, затем более подробной по мере того, как новый предмет привлекал кандидата. Наконец, следовало «посвящение», где у каждого пришельца из другого подразделения был свой «крестный», который вводил его в курс дела. В течение года каждый пришелец мог при желании вернуться «домой» без ущерба своему служебному положению или остаться и тогда через год официально становился членом нового подразделения. Я желал возбудить во всем отделении широкую дискуссию вокруг этой затеи; главное ее преимущество я видел в разнообразии исследований внутри отделения и в возможности предложить сотрудникам выбор нового занятия, оставаясь под его крылышком.
В начале октября я уехал в США читать лекции в Гарварде и Ейле (Yale), а вернувшись, нашел совершенно новую обстановку в КАЭ. Сняли наших ГА Робера Гирша и ВК Перрена. Новым ГА был назначен Андре Жиро (Andre Giraud) — высокопоставленный чиновник, сравнительно молодой человек (лет сорока пяти), энергичный и честолюбивый, — с заданием перестроить КАЭ и, между прочим, увеличить вес прикладных исследований за счет фундаментальных, что мне мало улыбалось. Новым ВК был назначен наш Жак Ивон, который оставил свою кафедру в Сорбонне за два года до пенсии. Новый государственный декрет широко расширил полномочия ГА за счет ВК. К тому же Ивон не имел ни престижа, ни опыта Перрена, пробывшего на посту почти двадцать лет, и не мог бы ни в коем случае служить противовесом новому ГА. Мне необходимо было спешно определить свое поведение по отношению к этим переменам, и во всяком случае уже не время было проводить реформы в моем отделении.