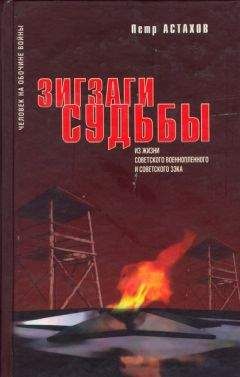Прозревать я стал лишь после второго приговора, испытав тяжелую боль за придуманное мне режимом новое преступление. Я испытал желание подвести пройденному итоги.
К прожитым двадцати двум годам после возвращения из плена Особое совещание прибавило еще пять. Уходил 1950-й год. Мне было тогда двадцать семь лет. Из них четыре унесла война, пять — отмерило советское правосудие за то, что выжил. Девять наиболее ярких и плодотворных лет в жизни человека. К ним теперь Особое совещание добавило еще десять и после этого собственная жизнь моя предстала в недвусмысленно говорящих цифрах.
Девять лет, отданные Государству, показались недостаточной компенсацией за желание выжить. Человек, проживший моей жизнью, уже не мог принадлежать к числу советских людей, так как прикоснулся к вещам запретным, тщательно от него скрываемым. Он увидел жизнь за «занавесом» не такой, как ее обычно представляли советские идеологи, а позднее узнал, что условия и жизнь заключенных в Советском Союзе совсем не похожа на те, какими они выглядели в довоенном кинофильме о строителях Беломорканала.
Поэтому новое постановление стало логичной и необходимой мерой дальнейшей изоляции от ничего не видевших и ничего не ведавших. Так и появились эти десять лет в плюс к прожитым девяти. Общий итог теперь звучал более весомо и убедительно — девятнадцать.
Но теперь Особое совещание представлялось мне более реально, как инструмент в руках Государства, я понял, что после второго постановления последует третье и еще, и еще, и так до гробовой доски — ив этом уже не было сомнений.
Надежда покинула меня. Обратной дороги к людям не будет — для меня лишь 67-я параллель станет постоянной границей при определении сроков и места земного бытия.
Потрясение было настолько сильным, что я надолго потерял покой, ясность и трезвость ума, не раз просыпался в холодном поту от бессилия преодолеть порог тюрьмы, когда, казалось, уже пройдено последнее препятствие.
В сознании произошел психологический кризис, продолжавшийся еще долго после освобождения. Все связанное с тюремным прошлым осталось давно позади, а память, сохраняя подробности, продолжала душить больное, отчаявшееся обрести свободу, сердце.
Впервые после пережитой трагедии произошла и переоценка моего отношения к режиму. Я не раз говорил о своей лояльности к мерам безопасности государства, оправдывая их необходимость. Свое наказание понимал, как вынужденную меру защиты Государства от нарушителей конституционных основ и военной присяги. Угроз и спорных ситуаций во время следствия я не имел — оно закончилось в установленные сроки и вполне возможно, что пятилетнее наказание я получил за эту бесконфликтность.
Что же касается обвинения в шпионаже, то оно меня так сильно встряхнуло, что я без особых усилий освободился от привычных представлений и вспомнил все слышанное о произволе Госбезопасности.
Перенесенная боль от инсинуаций и лжи помогла освободиться от беспечного равнодушия к чужим бедам и горю — я сам оказался в числе «ни за что» пострадавших. Ранее я также беспечно воспринимал ложь и цинизм следователей, исполнявших волю руководства. Но как только исчезла с их лиц маска, когда я ощутил их влияние на свою личную судьбу и представил дальнейшие последствия, мне стало нехорошо.
Наступила пора прозрения.
Если бы советские люди жили по меркам остального мира и пользовались объективной информацией, такого положения могло и не быть. Но конституционные свободы у нас выглядели иначе.
Волю трудящегося народа провозглашало Государство, а оно всегда руководствовалось своими собственными интересами. Что касается прав граждан, то и они исходили не из их собственных интересов и требований, а из государственных — хитрое, казуистическое изобретение системы. Выразительницей воли народа Государство объявило диктатуру пролетариата. Но между волей народа и правящей элитой кремлевского руководства и им подобных в республиках, краях и областях существовала громадная разница. Ни одно другое государство в мире не имело такую элитарную власть и такие привилегии, как наше.
Мир был поделен на разные половины — одна принадлежала буржуазии с ее эксплуататорскими устремлениями, с выгодным и угодным порядком, формально провозглашавшим равенство граждан, демократические права и свободы, но не содержащих однако норм, гарантирующих осуществление этих прав трудящихся (так выглядит определение буржуазного мира в одной из советских энциклопедий). Вторая половина — социалистическая, конечно же, была «лишена» этих недостатков и гарантировала своим гражданам обеспечение всех прав и свобод.
Но несмотря на то, что диктатура пролетариата выражала волю народа и была самой справедливой властью на земле (так ее преподносили советские идеологи), она породила однако иную, неугодную категорию граждан, которым навесила различные ярлыки — «отщепенцы», «диссиденты», «инакомыслящие». В остальном мире их называли поборниками и борцами за права человека в Советском Союзе.
И как не пыталось Государство скрыть существование такой категории граждан, ничего из этого не получилось. Вначале слабые и разрозненные голоса пытались заглушить в психушках и тюрьмах закрытого типа, обвинить в антигосударственных акциях, в злостной пропаганде и клевете, но движение тем не менее росло, пробивало дорогу, и вскоре мировая общественность вступилась за их права, потребовала свободу узникам совести. Инакомыслящие получили возможность легализовать свое положение или покинуть страну.
Я не принадлежал ни к одной из этих категорий — люди эти появились позднее, когда я уже был на свободе.
Мне казалось, что случившаяся беда пришла ко мне по вине органов Госбезопасности — все акции репрессий были связаны с ними, — и потребовались годы, прежде чем я раскрыл истинных виновников, происходившей в Советском Союзе трагедии.
Представления о руководителях Советского государства складывалось у меня в условиях советской действительности тридцатых годов.
Овеянная немеркнущей славой фигура Ленина выглядела настолько величественной и непогрешимой в своем отношении к людям и по своей социальной значимости, что по сути ничем не уступала божественному образу Христа. Бесчисленные памятники и фотографии, художественные полотна, литературные и музыкальные произведения, миллионные тиражи его собственных сочинений создали в Государстве рабочих и крестьян образ вождя-идола. И десятки лет к величественному мраморному пантеону в глубоком молчании шли на поклон люди…
Было много легенд, и наиболее распространенная выражала чаяния простого народа, оглядывающегося на пройденный уже со Сталиным путь: «Был бы жив Ленин — этого бы не произошло!» Оставшиеся после его смерти «продолжатели» свято и неуклонно поддерживали авторитет вождя, под эгидой которого легче было пробираться к вершинам власти.