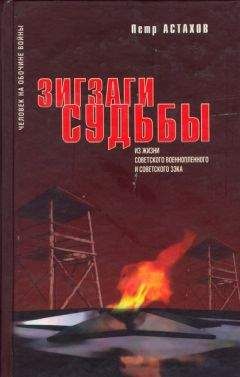Я находился в глубоком нокауте. Чудовищное обвинение, ничего общего не имеющее с фактами жизни простого интернированного в Швейцарии, никак не вязалось с материалами следствия, которому было известно все от первого и до последнего дня нашего пребывания в этой стране. Об этом я рассказывал на допросах и в написанных показаниях, стараясь ничего не упустить, чтобы не оставить «белых пятен». Однако о связях с американцами там не было сказано ни единого слова.
Тяжесть обвинения неминуемо должна была закончиться суровым приговором, с обязательной изоляцией в места Крайнего Севера и особых лагерей.
«Люди!» — кричал во мне голос — «Это надуманное обвинение и чудовищная ложь! Более гнусного акта невозможно придумать! Я не виноват! Но как мне доказать свою невиновность? Это же произвол! Поймите, постановление окончательное — ни апелляции, ни пересмотру оно не подлежит!»
Голос усиливался, я чувствовал, как нарастает во мне волна протеста и возмущения. Впервые за все годы заключения я испытал потребность сказать об этом, не думая о последствиях.
— Гражданин полковник! Я ознакомился с постановлением, оно сфальсифицировано и не отвечает действительности. Я не знаю ни американской разведки, ни тем более задания от нее. Это ложь! Поэтому подписывать постановление не буду!
В моем положении есть лишь одно право протеста — отказаться от подписи. Только оно может стать свидетельством абсурдности обвинения.
Мне показалось, что полковник не ожидал такого заявления от невзрачного человека, не внушающего к себе мало-мальского уважения — я выглядел мальчишкой. Он отреагировал с надменным хладнокровием оперативного сотрудника, уж не раз участвовавшего в подобных акциях, смерив меня уничтожающим взглядом.
— А знаете ли, что решение Ваше не повлияет на конечный результат? Учтите это. Постановление при всех случаях останется в силе! Не валяйте дурака! Я лично не советую Вам обострять отношения — это в Ваших интересах. Скажу больше, если Вы не подпишите постановление, мы вынуждены будем составить акт. Он будет подшит к делу; а всякая бумажка такого рода — нежелательна в лагере: этот хвост станет компроматом на долгие годы. Подписывайте, не упрямьтесь!
Я слушал его доводы, с чувством тревоги обдумывая предложение о капитуляции. И если бы угрозы могли осуществиться сиюминутно, с применением силы, я бы подумал, что делать дальше. Но в эту минуту я не увидел реальной опасности, а расправа в будущем оставалась под сомнением — она могла и не произойти.
— Не уговаривайте меня, я не изменю решения. Это произвол, и как только у меня появится возможность написать куда следует, я сделаю это.
В моих словах прозвучала угрожающая нотка, а кто из «смертных» мог позволить себе угрожать могущественному ведомству?!
Полковник, уловивший тон моего заявления, обнажил свой хищнический оскал.
— Вы забываете главное — мы в состоянии отправить Вас в такое место, откуда не только писать не сумеете, но и думать. Это я Вам обещаю.
Угрозу он привел в исполнение.
1.
Почти два года я не был в Воркуте. И вот, в июне 1950 года я снова здесь, снова на воркутинской пересылке.
Через несколько дней меня направили для отбывания срока наказания — на шахту № 8. В это время в Воркуте было создано новое Управление ГУЛАГа (для особого контингента заключенных) под кодовым названием «Речлаг». Заключенные подобных лагерей были обречены на долгую жизнь в условиях Заполярья, без реальных надежд на освобождение после окончания срока наказания.
Обещанные полковником места обетованные оказались ничем иным, как самыми строгорежимными лагерями для спецконтингента. Информация о мире здесь, о внутренних и внешних делах была сведена к нулю — ни радио, ни газет, ни писем. Вольнонаемные сотрудники, имеющие какое-либо отношение к работе с заключенными, подвергались ежедневной обработке «спецов» из Речлага. Им старались внушить главную мысль: люди, попавшие в лагерь, — преступники против человечества, отбросы общества, руки их обагрены кровью, они и после войны продолжают вершить и вынашивать свои преступные дела и планы. К счастью, советское правосудие вовремя остановило их коварные намерения.
Для того чтобы характеристика эта походила на правду, требовалось новому контингенту соответствующее оформление, особый режим на зоне и в жилых бараках. Если до этого форма для всех заключенных ГУЛАГа была одна, то в особых лагерях ввели новшества, чтобы сразу отличать этих «особо опасных» преступников. На всех носильных вещах (кроме нательного белья) пришивался кусок белой материи с номером. Даже в бараке, на каждой койке, прибивалась табличка с таким же номером.
В бараках, находящихся в жилой зоне (охраняемых денно и нощно солдатами внутренних войск), установили решетки на окнах; на двери повесили замки, чтобы закрывать заключенных на ночь(!). Для «удобства», чтобы не бегали по ночам в общий сортир, отвели в бараках отхожие места, установив там деревянные бочки-параши.
Лагерные условия напоминали тюрьму — заключенные постоянно находились под бдительным наблюдением надзора, исключающим нарушения режима. Как тут не вспомнить предостережение полковника!
2.
Второй приговор Особого совещания был воспринят мною чрезвычайно тяжело. Казалось, я должен был быть готовым к нему и мог рассматривать происходящее беззаконие как логическое продолжение мер системы против меня, но я не хотел принимать во внимание советы и доводы тех, кто уже прошел через это, — они потеряли для меня силу.
Я все больше думал о приближающейся свободе, о возможности увидеть дом, родных и друзей, ожидающих моего возвращения; не потерял до конца надежду встретиться с любимой девушкой. Все это теперь изменилось, реально ожидаемое «завтра» стало недосягаемым, и надежда уступила место безысходности и неизбежности конца.
Когда тебе только двадцать два и сделаны лишь первые шаги за решеткой — пять лет гулаговского срока были не самой большой трагедией. Так, по крайней мере, казалось мне после первого решения Особого совещания.
Разные условия ожидали меня на этом пути, думал, что будет трудно, но все эти годы я жил надеждой на освобождение. Я даже строил планы на будущее, не задумываясь о возможных изменениях в сроках Особого совещания. Меня особенно обнадеживало пятилетнее наказание по тягчайшей 58-й статье. Если был вынесен такой мягкий приговор — значит, не опасен для общества. Этот обывательский взгляд говорил о легкомыслии и отсутствии трезвых оценок, опрометчивых выводов, свойственных многим невинно пострадавшим.