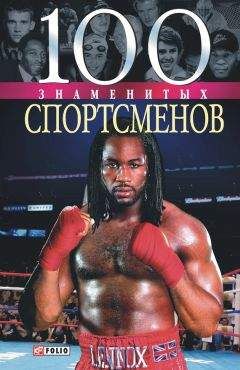- Всё история! - согласился Борис, доставая из шкафа и вынося в сени бутылку водки.
"Даже моя фатера, - подумал, - за три дня биографию набирает: сначала Ращупкин приперся, потом Валька, а теперь..." - он открыл дверь в сени, достал из-за кадки кастрюлю с супом и поставил рядом поллитровку.
- Теперь... - он снова не мог подобрать подходящие слова и объяснить, что же теперь... Теперь женщина, самая, очевидно, лучшая в мире, пришла к нему в гости, вернее не к нему, а в его фатеру, и он готов был ревновать ее к своему жилью. И в то же время ему было стыдно за неказистую комнатенку, которая свалилась ему чуть ли не с неба, - хотя он почти родился здесь и прожил до полных одиннадцати лет.
В кухне черенком черпака лейтенант разбил лед в большой кастрюле, перелил половину содержимого в меньшую и выковырял полуторакилограммовый кусок мяса. Меньшую кастрюлю он поставил на газ, а большую отнес назад в сени и накрыл камнем.
- Проголодались? - улыбнулся аспирантке. Она уже сидела на покрытой тонким армейским одеялом самодельной тахте.
- Нет. Я ела, когда вы пришли.
- Ну, это когда было! - подошел он к окну и заново прикнопил оторвавшийся край газеты. Занятый пустячной работой, он чувствовал себя здесь куда уверенней, чем в библиотеке, в кино или просто на улице. Инга с любопытством следила за офицером.
- Нет, не надо. Не люблю верхнего света. Так лучше, - сказала, когда он подошел к выключателю.
- Сейчас закипит, - сказал, вываливая продукты на тарелки. Сыр пришлось поместить вместе с колбасой и провансалью. Тарелок не хватало.
- Помочь вам? - спросила гостья.
- Нет, не надо. А то неинтересно будет. Я ведь в первый раз в жизни принимаю гостей.
- Конечно! - сказала аспирантка. Ей начинало здесь нравиться. Только хозяин по-прежнему был излишне суматошлив.
- Несут, несут! - подражая половому из второго акта "Ревизора", закричал, вталкиваясь в дверь с кастрюлей, и тут Инга загадала, что если лейтенант поставит кастрюлю на пол (собственно, больше ставить ее было некуда), то у доцента с прокуроршей примирения не выйдет. Но лейтенант, лишь секунду помедлив, толкнул правым локтем мембрану патефона (она, взвизгнув, легла на свое место) и, придавив другим локтем патефонную крышку, взгромоздил на нее кастрюлю.
- Вот хитрюга, - чуть не вскрикнула Инга и тут же усмехнулась своему невезению и солдатской находчивости хозяина.
Он в последний раз вышел в сени за бутылкой водки, которая почти не охладилась, потом пододвинул стол к тахте; сощурясь, налил в жестяную кружку и в фаянсовую и обе пододвинул гостье.
- Вам какую - армейскую или эту? Я из нее когда-то пенки вылавливал.
- Нет, жестяную. Терпеть не могу молока.
- А я люблю. Но это пью чаще. Вот демобилизуюсь и вернусь к первоисточникам. Ваше здоровье!
- Ваше! Пусть у вас все получится, - чокнулась с ним через стол. Звук получился странный, но она бодро выпила почти не остывшую водку. - Нет, нет! Мне супу не надо, - замахала, будто поперхнулась, когда лейтенант понес полный половник к ее глубокой тарелке с таким же трактором, как на фаянсовой кружке.
- Ну, тогда одного мяса, - удивился он и вылил половник себе.
Ему нравилось, как она ест, пьет, чокается, сидит на его тахте в его комнатенке, уже почти темной от исправленных на окнах газет, и он ловил себя на мысли, что еще никогда не был таким везучим.
15
Бороздыка рассчитывал пробыть за городом по крайней мере до понедельника. Как все неработающие люди, он не терпел воскресений и особенно невзлюбил их теперь, когда обзавелся невестой Заремой Хабибулиной, матерью-одиночкой. Дочка Заремы после шестидневки переворачивала дом вверх дном и заявляться к Хабибулиным в воскресенье было по меньшей мере неблагоразумно. Но и торчать у себя в грязной, запущенной, с подтеками на потолке светелке было невесело и поэтому Игорь Александрович предпочитал проводить уикэнды в гостях. Несмотря на пристрастие ко всему духовному, он обожал хорошую пищу и, охотно заглушая свой непримиримый антисемитизм, посещал еврейские дома, где еще не разучились кормить.
Марьяну Сеничкину, хотя она была чистокровной славянкой, он не переваривал по иным причинам. Но перспектива подышать свежим воздухом была настолько соблазнительна, что на подмосковной платформе, где она ждала его с доцентом, он галантно поцеловал ей руку в разрез перчатки, за что был чмокнут куда-то возле уха.
За несколько минут обратной дороги к дому Фирсановых Бороздыка чутким нюхом неудачника определил, что никакого примирения между супругами не произошло, но, сосредоточив мысли на фирсановском хлебосольстве, которого еще не испытал, но о котором был наслышан, не счел свой субботний выезд таким уж бесперспективным.
И только на лестничной площадке заводского дома, когда они трое наткнулись на какую-то обрюзгшую немолодую женщину в странной стеганке с пришитым облезлым лисьим воротником, Бороздыка понял, что ничего не будет и придется поворачивать в столицу не солоно хлебавши.
Он не допытывался, что это за женщина и откуда она. Впрочем, откуда было ясно так же, как было ясно, что она не чужая. Возможно, он это понял даже раньше Марьяны, которая сначала оторопело глядела на женщину, словно что-то вспоминая, потом рывком обняла ее, зарыдала, наверно, как решил Бороздыка, больше от стыда, чем от радости.
Конечно, это была родственница, которую старались забыть и почти забыли, и уж никак не ожидали, а она вдруг вернулась. Ее надо было куда-то поместить, чуть отогреть, собрать вещей и денег на дорогу - и чужим в эти часы в доме было не место. Это сразу поняли Сеничкин и Бороздыка и, наскоро пожав гостье руку, скрылись на английский манер, не прощаясь.
- Извините, сэр, - сказал доцент в станционном буфете, протягивая Игорю Александровичу полстакана коньяку. - Этот предмет неожидан и для меня.
- Ничего. Бывает, - великодушно чокнулся с ним Бороздыка. Они сели в поезд. Доцент не слишком грустил. Ему не терпелось сбежать от Фирсановых, и явление Марьяниной тетки (он догадался, что это тщательно скрываемая жена пропавшего много лет назад материнского сводного брата) было ему на руку. Он не хотел с Марьяной ни мириться, ни ссориться. Ее побег с чемоданом к переводчице был шокингом и тут следовало что-то делать. Вот он и поехал с ней за город. А явление непредусмотренной родственницы было семейным бедствием и, стало быть, уважительной причиной, чтобы ничего не предпринимать в плане примирения. Во всяком случае, шокинг прерывался, если не аннулировался.
При всей своей собранности, работоспособности, молодости и везучести Сеничкин не любил принимать самостоятельных решений. Он верил в свою звезду и считал, что все само собой уладится. И пока действительно улаживалось. А что Марьяна фордыбачит и бесится, то все они такие. Даже Инга - с виду олененок - тоже с характером и Бог знает чего выдумывает. Он верил, что если не очень расстраиваться, все само собой придет в норму. Кроме того, явление этой нелепо одетой старухи давало компромат на Марьяну и при случае можно было бы подпустить шпильку по поводу фирсановской семьи, ее человеколюбия и христианской отзывчивости. Во всяком случае, это будет шикарная и приятная неожиданность для Ольги Витальевны.