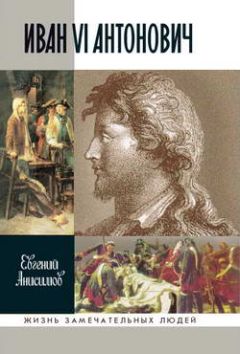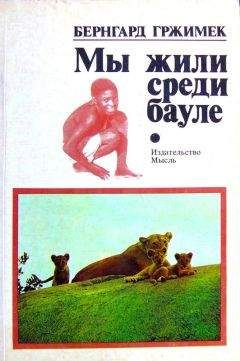Овцын писал 9 июля 1759 года: «Арестант, видимо, в уме, действительно, помешался. В лице перед прежним стал быть хуже и бледнее, а когда я спрошу, здоров ли, то с великим сердцем ответствует, что здоров, а в поступках так, как прежде… доносил от времени беспокойнее. Из нас каждому, заходя, в глаза дует и фыркает и другие многие проказы делает, а во время обеда на всех взмахивает ложкою и руками, кривляет ртом, глаза косит, так что от страху во весь стол усидеть невозможно, и он, увидя, что я робею, более всякие шалости делает».
Как известно, сильное заикание во время затрудненной речи приводит к особенной мимике, которую можно воспринимать как неприятную гримасу, кривлянье. Помимо этого, в поведении арестанта можно увидеть следы инфантильности, а более всего – оскорбленную гордость и даже спесь. В конфликтах с офицерами охраны он, как правило, заводил речь о своем истинном высоком происхождении, прежнем высочайшем статусе, считал, что люди, которые его окружают, спят в его комнате, делят с ним стол, оскорбляют его, недостойны его мизинца, причем к этой теме возвращался часто: «Много раз старается о себе, кто он сказывать, только я запрещаю ему, выхожу вновь».
Во время одной из ссор арестанта с Чекиным Овцын успокоил его «с превеликою нуждою», а арестант, «крича, говорил мне: „Смеет ли он на меня кричать! Ему за то надлежит голову отсечь! Он и все вы знаете, какой я человек!“». В этом месте вспоминается описанная выше сцена игры двухлетнего малыша с собачкой в Динамюнде. 20 июля 1759 года Овцын писал, что, когда арестанту подали воду для чая, он требовал, «чтоб ему в чашку наливали, а когда в чашку воду наливать не стали, то он закричал: „Пошлите мне скверного своего командира!“ Когда ж я к нему вошел и спросил, кого он спрашивал, то он стал меня бранить всяческими сквернословиями, я закричал, чтоб он не беспокойствовал, на что он закричал: „Смеешь ли ты на меня кричать? Я здешней империи принц и государь ваш!“». В следующем доношении: «И 22-го числа заставливал меня воду на чай наливать, потом врал о себе, как и прежде». Можно себе представить, откуда происходит эта, по определению Овцына, «шалость»: Иван Антонович помнил то время, когда он был мальчиком, а его родители пили кофе по утрам и за столом им прислуживал лакей.
Получив одно из таких донесений Овцына, Шувалов поручил ему важное задание: войти одному в камеру к арестанту и спросить его, кто он. Овцын рапортовал: «Арестанта кто он, спрашивал, на что прежде сказал, что он человек великий и один подлый офицер то от него отнял и имя переменил (не Миллер ли? – Е. А.), потом назвал себя принцем. Я ему сказал, чтоб он о себе такой пустоты не думал и впредь того не врал бы, на что, весьма осердясь на меня, закричал, для чего я смею ему так говорить и запрещать такому великому человеку».[532]
Из еще одного донесения Овцына видно, что арестант даже знал, кто правит в этот момент государством, и представлял себе свое возможное место в иерархии. Когда Овцын пригрозил, «что ежели он пустоты своей врать не отстанет», то его ограничат в пище и одежде… на что он меня спросил: «Кто так велел сказать?» Когда я сказал, что (это) тот, кто всем нам командир, он мне сказал, что то все вранье и никого не слушает, разве сама императрица ему прикажет».[533] То, что арестант знал, кто он такой, подтверждает и описанный в «Истории Ивана III» Бюшингом эпизод посещения Петром III камеры шлиссельбургского узника. Император с сопровождающими лицами, среди которых был и известный читателю барон Н. Корф (он и рассказал это Бюшингу), вошел в камеру, обставленную убогой мебелью, и увидел молодого, бедно, но чисто одетого человека. Бюшинг пишет, что, по мнению его информатора, «он был совершенно невежественен и говорил бессвязно». Но, в противоречие вышесказанному, информатор передает слова, сказанные узником императору, как вполне связные и понятные собеседнику: «После первого вопроса: „Кто он такой?“ – принц отвечал: „Император Иван“, а потом на вопросы, как это ему пришло в голову, что он принц или император, и откуда он про то узнал, отвечал, что знает от своих родителей и от солдат. Продолжали расспрашивать, что он знает про своих родителей. Он уверял, что помнит их, но сильно жаловался на то, что императрица Елизавета постоянно очень худо содержала и их, и его, и рассказывал, что в бытность его еще при родителях последние около двух лет состояли под присмотром и на попечении одного офицера, единственного, который был с ними добр и любил их. Тут крепко забилось сердце у генерала Корфа, и на вопрос, помнит ли еще принц этого офицера – „Нет, – отвечал он, – я больше его не помню, потому что этому прошло много лет, и я тогда был еще ребенок, но знаю его имя, его звали – Корф“. Генерал прослезился. Принц слышал также про великого князя (Петра Федоровича. – Е. А.) и его супругу и когда стал уверять, что надеется снова попасть на престол, то его спросили, что он тогда сделает с великим князем и великою княгинею. Он отвечал, что велит их казнить».[534] Это императору не понравилось. Многое из этого рассказа совпадает с источниками, не известными Бюшингу. Позже, в апреле, барон Унгерн, сопровождавший императора, привез для узника в подарок от императора шлафрок, рубашки, колпаки, туфли и платки – видно, что бедная одежда узника произвела на императора надлежащее впечатление.
Проведенное же вскоре после визита императора в Шлиссельбург срочное расследование Тайной канцелярии установило, что действительно в Холмогорах солдаты охраны говорили арестанту, что он бывший император, сын принца Антона Ульриха и принцессы Анны, что Россией правит его тетушка Елизавета Петровна и у нее есть племянник Петр Федорович, что, наконец, все ему, Ивану, присягали при его вступлении на трон.
Как мы видим, арестант достаточно много знал о своем прошлом, чтобы требовать к себе более почтительного отношения и комфортабельных условий жизни. В сознании узника возникало явное противоречие, которое терзало его: Иван знал о себе многое, но никто официально не говорил ему, кто он такой и за что он сидит в тюрьме. Вместе с тем он видел, что его содержали как важную особу отдельно от других узников, но это отдельное содержание не соответствовало, по его мнению, тому высокому статусу, который был у него от рождения. Воспоминания далекого детства о том, как его семья в довольно приемлемых условиях жила в Динамюнде и Ранненбурге, делали его переживания особенно острыми. Поэтому Иван гневался, возмущался, а его, как простого заключенного, наказывали, лишая еды, одежды, даже били, связывали на несколько часов. (По инструкции 1762 года охране вообще разрешалось сажать арестанта на цепь и бить палками и плетью.) Это вызывало новый приступ гнева и возмущения узника.