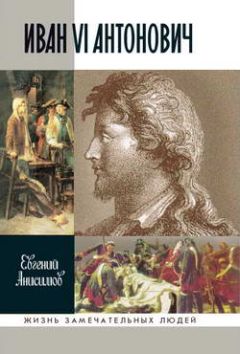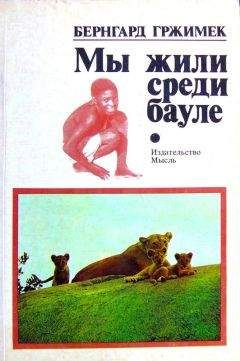Как мы видим, арестант достаточно много знал о своем прошлом, чтобы требовать к себе более почтительного отношения и комфортабельных условий жизни. В сознании узника возникало явное противоречие, которое терзало его: Иван знал о себе многое, но никто официально не говорил ему, кто он такой и за что он сидит в тюрьме. Вместе с тем он видел, что его содержали как важную особу отдельно от других узников, но это отдельное содержание не соответствовало, по его мнению, тому высокому статусу, который был у него от рождения. Воспоминания далекого детства о том, как его семья в довольно приемлемых условиях жила в Динамюнде и Ранненбурге, делали его переживания особенно острыми. Поэтому Иван гневался, возмущался, а его, как простого заключенного, наказывали, лишая еды, одежды, даже били, связывали на несколько часов. (По инструкции 1762 года охране вообще разрешалось сажать арестанта на цепь и бить палками и плетью.) Это вызывало новый приступ гнева и возмущения узника.
Неудивительно, что все беды и обиды, обрушившиеся на голову арестанта, олицетворяли для него двое главных тюремщиков – Чекин и Власьев. Ивана Антоновича раздражали сам вид его охранников, каждое их движение и слово. Отношения эти порой настолько обострялись, что арестант с полуслова бросался в драку. Овцын пишет: «Я, сидя на галерее, услышал в казарме крик и, вошед, увидел, что арестант держит против прапорщика стул и кричит, что убьет (его) до смерти. Я спрашивал тому причину, он сказывает, будто бы прапорщик глядел на него непорядочно и он ему в том стал запрещать, на что будто б прапорщик кричал, что ему, арестанту, зубы выбьет, и таким образом один против другого стулья взяли».[535]
Иван Антонович был убежден, что ненавистные ему охранники наводят на него порчу, что они «еретики». Он находил порчу в том, что офицеры «будто бы они бранят его по (матерному) и раз по 20-ти и более, не переставая, плюют, в чем он считает колдовство», а также в «шептании» («ходя, шепчут и тем портят»). А когда Овцын пытался его разубедить, что шептанием навредить человеку невозможно, арестант начинал опровергать офицера: «…доказывает Евангелием, Апостолом, Минеею, Прологом, Маргаритом и прочими книгами, рассказывает, в котором месте и в житии которого святого (писано). Когда я говорю ж ему, что напрасно сердится, чем прогневает Бога и много себе хуже дела сделает, на что говорит, ежели б он жил с монахами в монастыре, то б и не сердился. Там еретиков нет, и часто смеется, только весьма скрытно».
В последние годы своей жизни арестант пытался сам найти выход из того замкнутого круга противоречий, в который он был поставлен судьбой и окружающими. Под влиянием чтения Священного Писания и собственных, проникнутых мистикой, размышлений он самостоятельно выработал некую защитную концепцию перерождения, переселения духа, довольно распространенную в среде религиозных фанатиков с древнейших времен и до наших дней. Тем самым он решал для себя мучительную антитезу «Иван – Григорий». Как писали Власьев и Чекин, Иван Антонович говорил им, что «тело и плоть ево есть принца Иоанна, назначенного пред сим императором Российским, который уже издавна от мира отшел, а самым делом он есть небесный дух, а именно святой Григорий, который на себя принял образ и тело Иоанна, почему, презирая нас и всех видимых им человек, неоднократно нас и протчих самомерзейшими тварьми почитал, сказывая, что он часто в небе бывает и о тамошних жителях, строениях, садах и протчем чудные, ни малейшего складу имеющие и такие описания чинил, что самым истиннейшим доказательством помешенного разума почитаться имелись».[536]
В остальном, судя по докладным запискам Овцына, арестант вел себя как обычный человек, был вполне адекватен. Вот запись беседы Овцына с Иваном по поводу его болезни: «О арестанте доношу, что так же мало ест, как и прежде, а болезни никакой не имеет, только немного нос залегает. Я спрашивал, от того ли болит голова? Он сказывает: „Никакой тягости нет“».
Екатерина II об Иване Антоновиче не забывала. Этому мешала упорная народная молва, отражавшаяся в экстрактах Тайной экспедиции, пришедшей на смену Тайной канцелярии елизаветинских времен. Внезапный захват престола Екатериной II в июне 1762 года, свержение и смерть «от геморроидальных колик» законного наследника Елизаветы Петровны императора Петра III потрясли тогдашнее общество, породили волну дискредитирующих императрицу слухов, что впоследствии и привело к появлению феномена Пугачева. Но еще задолго до Пугачева общество на все лады активно обсуждало проблему экс-императора Ивана Антоновича. Как уже говорилось, скрыть его существование и даже место его заключения властям не удалось. В первые два года правления Екатерины, еще не имевшей того авторитета, которым она пользовалась позже, были раскрыты два заговора в столичной среде, цель которых клонилась к восстановлению на престоле императора Ивана. Наиболее серьезным властям показался заговор братьев Хрущевых и братьев Гурьевых осенью 1762 года. Заговор был на стадии разговоров и вербовки сторонников, в том числе и среди солдат, но он напугал Екатерину. Весной 1763 года, когда пошли слухи о намерении фаворита Екатерины Григория Орлова жениться на императрице, образовался заговор во главе с камер-юнкером Хитрово, который собирался устранить Орлова и его влиятельных братьев, а императрицу выдать замуж за «Иванушку».[537] Этот брак казался многим идеальным – обе ветви Романовых, после десятилетий противостояния, соединились бы в общую семью.
Разумеется, Екатерина так не думала, общий ход ее мыслей был иным. Она хотела перевести экс-императора в монастырь и постричь его там. Глухих же и укромных монастырей на Русском Севере было много. Это позволяло и изменить его непонятный, возбуждающий любопытство статус, и обеспечить его безопасность. Императрица писала своему тогдашнему ближайшему советнику графу Никите Ивановичу Панину: «Главное, чтоб из рук не выпускать, дабы всегда в охранении от зла остался, только постричь ныне и (отправить) в не весьма близкой и не в весьма отдаленный монастырь, особенно где богомолья нет, и содержать под таким присмотром, как и ныне». Речь шла о выборе монастыря в Муромских лесах, в Новгородской епархии или в Коле, то есть на Кольском полуострове.
Охране было дано указание готовить арестанта к мысли о постриге. В инструкции от 3 августа 1762 года (в явном противоречии с утверждением Екатерины и других о безумии узника) было сказано, что с Григорием нужно вести разговоры такие, «чтоб в нем возбуждать склонность к духовному чину, то есть к монашеству… толкуя ему, что житие его Богом уже определено к иночеству и что вся его жизнь так происходила, что ему поспешать надобно себе испрашивать пострижение». Вряд ли с сумасшедшим, «лишенным разума и смысла человеческого», можно вести такие высокие разговоры о пострижении в монахи. И вчерашние мучители Ивана Антоновича принялись его убеждать в пользе монашества, молитвы вообще, причем делали они это так же грубо, как раньше глумились над его верой. Неизвестно, сколько бы тянулась эта несчастнейшая из несчастных жизней, если бы на острове не произошла трагедия.