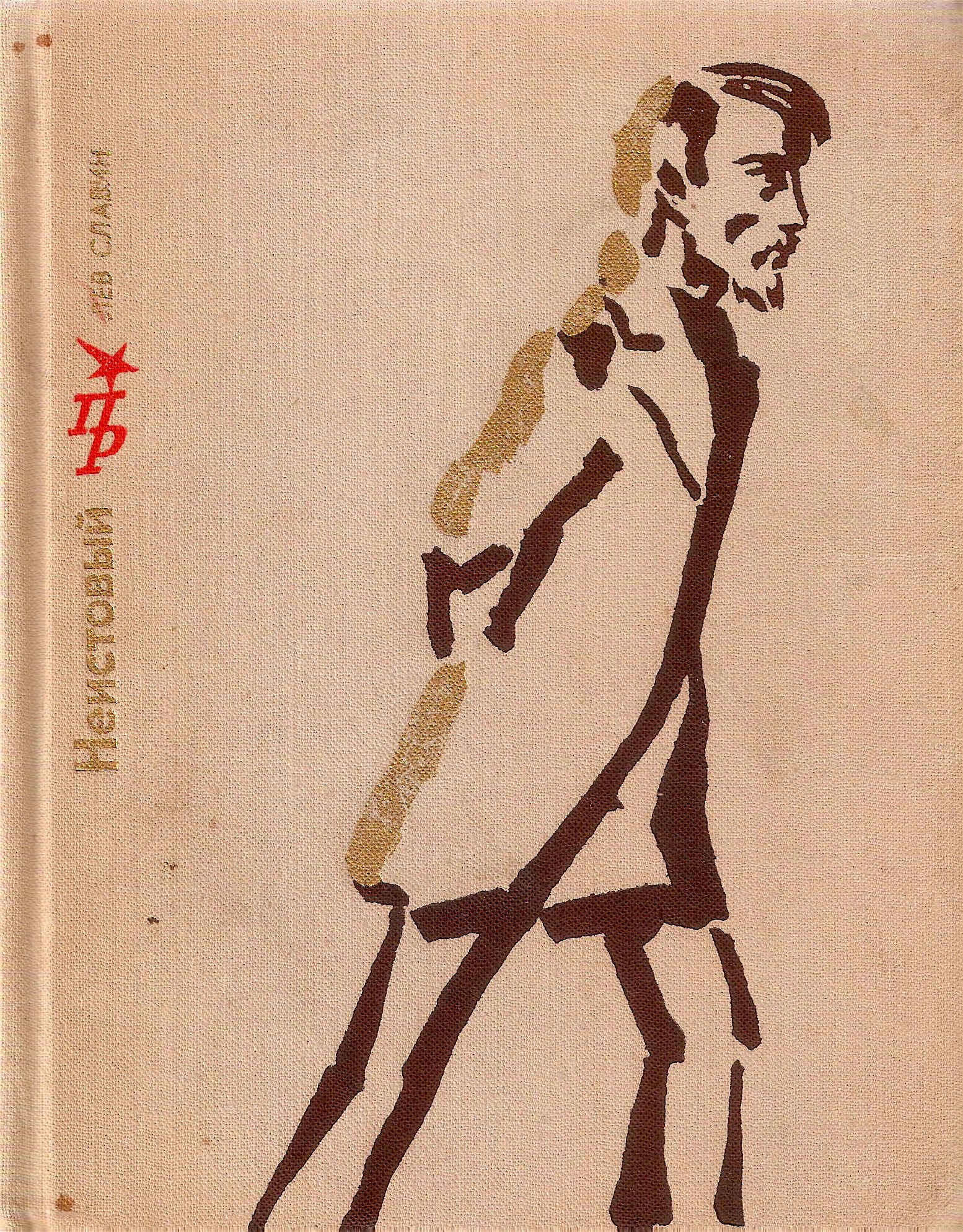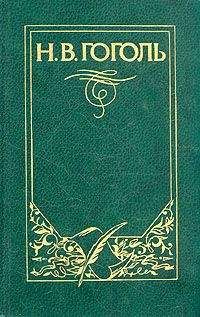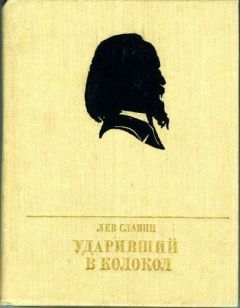Попов докладывал:
«Белинскому я уже отвечал, чтобы он не беспокоился и пожаловал к Вашему превосходительству, когда дозволит его здоровье, хотя бы через месяц или через два».
Вернувшись к Белинскому, Тютчев подробно рассказал ему о своем разговоре с Поповым.
— Подлец первостатейный,— заключил он свой рассказ,— змея и предатель.
— Ну, уж вы...— махнул на него рукой Белинский.— Подпортился маленько, это есть.
Ему не хотелось расставаться с светлым воспоминанием своей юности, с образом талантливого, бескорыстного, всегда чем-то увлеченного Михаила Максимовича, обожаемого учителя, кумира школьников. Но Тютчев не знал его в юности. А нынешний зрелый Попов ему очень не понравился.
— А может, он и не искаженный,— сказал Николай Николаевич,— а всегда был такой? От природы. Зачем валить все на влияние среды и так далее? Не на каждого же она влияет так, что человек устремляется служить в полицейском застенке. Вас, Виссарион Григорьевич, быть может, обманывает его ласковая приятная внешность. Да, оп обходительный, ударяется в лирику, даже обаятелен. А если хотите знать мое мнение, Попов — это Манилов с ножом за пазухой.
Белинский вдруг задумался. Он как бы вспоминал что-то. Потом позвал жену.
— Намедни, когда мы жгли письма,— сказал он,— я отложил пачку из молодых лет. Принеси-ка мне ее.
Перебрав письма, он достал одно, пожелтевшее от времени, прочел его. Писал Шурка Максимов, гимназический товарищ. Он, как и Виссарион, готовился в университет. Пензенскую гимназию он поминал самыми бранными словами — «дом, в котором мы перенесли столько оскорблений и ругательства». Дальше он честил учителей, «которых подлые и черные души находили удовольствие в наших мучениях и несчастьях, которых бесчисленные капризы с трепетом должны были исполнять мы; о, смотри и восплещи, злоба их бессильна!» Шурка не делал исключения и для Михаила Максимовича Попова, который «хотя и имеет личину добродетели», но есть человек «подлый и гнусный».
Белинский вздохнул, протянул письмо Марии:
— В печь...
Эстафета Белинского
Последние, лучшие из оставшихся, падают, истощенные этой неравной борьбой. Сначала Белинский... затем Грановский.
Герцен
Весна еще только начиналась, а легкие Белинского уже почувствовали разъедающую силу питерской апрельской сырости. Слабость валила его на постель. Он боролся, он старался превозмочь изнеможение. Он заставлял себя выходить на улицу. Он любил многолюдный Невский. Постукивая палочкой, переходил он по мосту Фонтанку.
Здесь-то и остановил его генерал, старый, с седыми подусниками, но еще бравый на вид. Он шумно приветствовал Виссариона. Тот был поначалу озадачен. Вдруг вспомнил: Скобелев Иван Никитич, комендант Петропавловской крепости. С ним как-то познакомил его Иван Ильич Маслов,— он там служил секретарем и был своим человеком в генеральском доме. Скобелев выписывал «Отечественные записки» и «Северную пчелу» и на этом основании считал себя не только тюремщиком, но отчасти и поклонником изящной словесности. Кроме того, он был шутник — в генеральском роде, конечно.
Взяв Белинского за пуговицу и посетовав, кажется от души, на его плохой вид, он разразился хохотом, что всегда предшествовало акту остроумия — видимо, генерал не очень рассчитывал на последующий смех собеседника,— и сказал:
— Когда же к нам? У меня совсем готов тепленький казематик, так для вас его и берегу.
Белинского передернуло от этого зловещего юмора: Он круто повернулся, пошел домой.
Прогулки его стали редкими, а на Невский он теперь вообще не заглядывал. Он попросил, чтобы диван вынесли во двор и поставили под деревом. Он сидел и смотрел на почки, набухавшие на ветвях.
Это ежегодное чудо рождающейся жизни радовало его.
Пришел Панаев. Белинский заметил, что он, поздоровавшись, старается тайком вытереть руку. Виссариону стало грустно, он и сам вытер свои руки, покрытые потом, и сказал:
— Плохо мне, Панаев!
— Пройдет, Виссарион Григорьевич,— с наигранной бодростью сказал Панаев,— весной у всех так, я вот тоже...
— Перестаньте говорить вздор,— прервал его Белинский.
Помолчали. Белинский пытливо посмотрел на Панаева.
— Вы с чем пришли, Иван Иванович? Выкладывайте, что томит вашу чуткую душу?
Панаев улыбнулся:
— От вас не утаишь, Виссарион Григорьевич. Получили из цензурного комитета циркуляр: представить список наших сотрудников.
— И что ж?
Панаев вынул из кармана бумагу и прочел, явно робея:
— «До третьего номера включительно в отделе литературной критики участвовал иногда...»
Он сделал ударение на слове «иногда».
— «...иногда г. Белинский; но...»
И скороговоркой:
— «...но по тяжелой и неизлечимой болезни ныне он вовсе не участвует в «Современнике»...»
Прочел и боялся поднять глаза на Белинского.
Услышал его спокойный голос:
— Совершенно справедливо. Ввиду острого интереса ко мне со стороны III Отделения надо было кинуть им эту кость. Правда, в № 4 я опять появлюсь, но ведь чинушки этого не увяжут с циркуляром. Им лишь бы бумажку подшить к делу.
Панаев облегченно вздохнул. Он боялся Белинского еще больше, чем цензуры.
Неожиданно пришел Кавелин. Он, оказывается, подал в отставку из Московского университета и приехал в Петербург искать места. Белинский искренне обрадовался ему, повеселел и тут же стал попрекать его:
— Что же вы, молодой глуздырь, ничего нам в журнал не даете? Вы, москвичи, много обещаете, а дойдет до дела — ленитесь. Болтать вы здоровы!
Он закашлялся. Успокоившись, пробормотал как бы про себя, но внятно лермонтовские строки:
И будет спать в земле безгласно То сердце, где кипела кровь, Где так безумно, так напрасно С враждой боролася любовь...
Встретив тревожные взгляды Панаева и Кавелина, усмехнулся и сказал:
— Ничего, несмотря на мою слабость, я физически живуч страшно.
И словно для того, чтобы представить наглядно свою жизненную силу, он пустился в