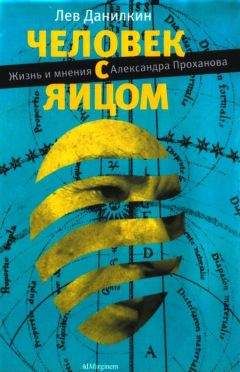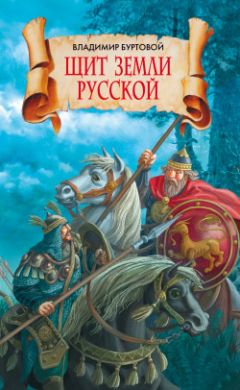«Россия, ты одурела!» — верно заметил прохановский оппонент; наступали новые времена, и почувствовать их Проханову пришлось много раньше, чем советскому плебсу. Курьезное, но немаловажное для его карьеры происшествие случается в Кремле, на последнем в истории съезде писателей СССР, в июне 1986-го. Чернобыльского ликвидатора и афганского военкора, его усаживают не в зале, а на сцене, в президиуме, вместе с Горбачевым, Яковлевым, Распутиным, Карповым и прочими сикофантами из ЦК и СП: таким образом ему и всем прочим дают понять, что он вот-вот перейдет в новый статус. Одним из тех, кто собирался ввести Проханова в писательское политбюро, был Георгий Марков. «Высокая партийная требовательность, — бубнил Марков, успевший в 50-е вцепиться в загривок умирающему Пастернаку, а затем, в 1985-м, сдать в печать роман „Синегорье“ о молодом секретаре обкома, похожем на Горбачева, и, неудивительно, в 80-е стать главой СП СССР, — важнейшая движущая сила многонациональной советской литературы. Счастлив художник слова, которому… счастлив художник слова, которому… которому… счастлив художник слова, которому…». Неожиданно прямо на трибуне с этим номенклатурным долгожителем начинает происходить нечто странное: он надолго замолкает, повторяется, наконец, его ведет, он глухо стонет и заваливается на бок. «Чернобыль, который взорвался на съезде», — охарактеризовал Проханов инсульт первого секретаря. Начинается паника, вызывают «неотложку», с Маркова снимают туфли, его выносят. Съезд тем не менее должен был продолжаться. «Счастлив художник слова, — дочитывал доклад уже писатель Карпов, по личному указанию Горбачева, — которому будет дано выразить наше время, время крутого, переломного этапа истории». Сразу, собственно, стало понятно, какой художник слова теперь будет выражать время — и хозяйничать в Союзе писателей: за те полтора часа, пока зачитывался злополучный доклад, произошел переворот. Паузой, однако ж, успевает воспользоваться «хитрый» Александр Яковлев, который мгновенно произвел рокировку, касавшуюся Проханова. Последнего вычеркивают из списка кандидатов как мракобеса и антиперестроечника и насыщают его литераторами прогрессивно мыслящими, такими, как Генрих Боровик и Андрей Дементьев. Этот эпизод вполне тянет на отдельную конспирологическую теорию, и Проханов даже бормочет что-то насчет того, что, «может, это Яковлев распорядился подсыпать Маркову в стакан воды какую-нибудь специю».
К 1987-му уже напечатаны «Дети Арбата», к 1988-му — «Живаго», вовсю публикуют Платонова, Набокова и Булгакова. Тотальная либерализация общества — «сахаровские делишки», по выражению Проханова, — уже действовала как центрифуга, но на фотографиях с 50-летия — ресторан «Москва», февраль 1988-го — мы еще видим, в последний раз, весь его литературный рой — Маканина, Кима, А. Гангнуса, О. Попцова, ту самую редакторшу из «Их дерева»… — в одном улье. Через год-два многие участники вечеринки — около двухсот человек — перестанут раскланиваться друг с другом, но пока что они гудят с Прохановым за одним столом и произносят ему здравицы. Он еще не выглядит испепеленным, как в начале 90-х, — весел, жизнерадостен, подтянут; даже за столом видно, что фигура у него, 50-летнего, по-прежнему могла бы впечатлить даже такого изысканного ценителя мужского атлетизма, как Б. Парамонов.
Ровно в тот момент, когда у окраинных ДК неформалы выклянчивают лишние билетики на премьерные показы «Ассы», а на окраинах Степанакерта азербайджанцы гоняются с ножами за своими армянскими соседями, Останкино транслирует на весь СССР «творческий вечер» А. А. Проханова, который рассказывает о своих замыслах, вспоминает об Афганистане, зачитывает отрывки из новых рассказов и отвечает на вопросы зала. Кто-то из зрителей, мужчина в полковничьей форме, спрашивает, не ранит ли его присвоенная ему демократами кличка «соловей Генерального штаба» — на что юбиляр отвечает: «Но ведь это Генеральный штаб Советского Союза, а не Соединенных Штатов Америки». В финале растроганный офицер подходит к нему и едва ли не со слезами на глазах рапортует: «Честь имею».
«Соловья» меж тем демонстрируют по телевизору не только по случаю юбилея, но и каждое воскресенье в 10 утра, он ведет милитаристскую программу «Служу Советскому Союзу!», которую к тому времени немного находилось охотников делать. Там он работает целый год, посвящая этому много времени, — даже на «Ассу» некогда сходить, — и тщетно, потому что от всего этого проекта мало что сохранилось в чьей-либо памяти. Разве что Андрей Проханов вспоминает, как отец возил его на учения на Кольском полуострове, где они снимали репортаж про морпеха, который до армии был типичным мажором, сыном чуть ли не ректора МГИМО, а затем все бросил и пошел в армию. В частности, там был эпизод «морпех снаряжающийся», удивительно напоминающий известную сцену в фильме «Коммандос», где Шварценеггер в течение десяти минут наводит марафет и обвешивается базуками; любопытное совпадение. Картину с участием будущего губернатора Калифорнии Проханов мог увидеть ни много ни мало в местах ее съемок, потому что в конце 1988 года, зампредседателя Комитета защиты мира, он отбывает в турне по Америке, которое не смогли испортить даже певуны Никитины, оказавшиеся с ним в одной делегации. Квартирует он в семьях — в Техасе, Калифорнии, Флориде и Вашингтоне. В столице он читает лекцию про афганскую войну, на мысе Канаверал наблюдает запуск «Атлантиса»; в Техасе инспектирует тюрьму и реабилитационный центр, во Флориде бродит по аттракциону «Город будущего», но в отчете, напечатанном в «ЛГ», с непонятной окружающим твердолобостью долдонит: «Я не верю в слащавую парфюмерную дружбу двух гигантов, распростертых на разных половинах Земли».
Этот текст «Кто ты, middle American?», датированный маем 1989 года, — последний его текст в «Литературке», где именно в это время происходит его стремительная маргинализация. В коридорах уже можно встретить людей девяностых — молодых Ю. Гладильщикова, Б. Кузьминского, С. Николаевича, которые воспринимают нашего героя в лучшем случае как призрак замка Моррисвиль; у него крайне низкий рейтинг цитируемости, на роман «Ангел пролетел» анонсируют рецензии, но их так и не публикуют, его затирают в прессе, и даже друзья считают его последние романы «слишком скороспелыми». Именно от «Литературки», еще в 1986 году, когда его «И вот приходит ветер» вместе с «Прологом» Генриха Боровика участвовал в конкурсе на Госпремию СССР, он получил первый удар: газета помещает на одной полосе две рецензии, из которых становится понятно, что книга очерков «Пролог» — глубокое и выдающееся произведение, а «Горящие сады» сиюминутны и поверхностны. Это покоробило его чудовищно. «И вдруг такая дешевая распродажа», — сокрушается коллега Бондаренко. «Предательство — очень интересное состояние, человек должен пережить вероломство близких друзей, испытать ревность как огромную форму страдания. Газета, которой я служил верой и правдой, которую считал своей родной корпорацией, в которую я был встроен, тайны которой я знал, она в период горячей перестройки вдруг обрушилась на меня с жуткой критикой за то, что я ездил в горячие точки, был символом милитаризма. Я от этой сучьей газеты ездил туда, они оплачивали мне командировки, чествовали меня, публиковали меня полосами, я благодаря этой газете получил репутацию советского Киплинга — и она же ударила меня в спину. Я был ошеломлен. Я перестал ходить туда».