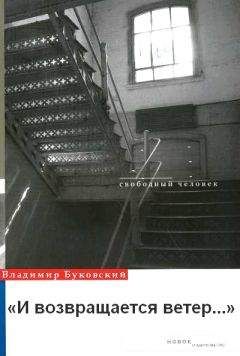Вновь я сидел в кабинете Лунца, под изображением гуманиста Пинеля, снимающего цепи с душевнобольных, и, как пять лет назад, мы беседовали о Бергсоне, Ницше, Фрейде. Только теперь под конец разговора Лунц уже не спрашивал, что же со мной будет дальше.
Первый месяц в Институте Сербского прошел спокойно: видимо, Лунцу еще не успели дать руководящих указаний. Раза два заходил закрепленный за мной молодой врач, но разговоры были самые общие. Просто болтали, смеялись. Лунц не появлялся. В середине сентября истекал срок экспертизы. Срочно собрали комиссию, решившую этот срок продлить «ввиду неясности клинической картины».
Я просто физически ощутил перемену. На обходе некоторые врачи отводили глаза и проходили мимо. Другие вдруг стали смотреть на меня с тем непередаваемым «психиатрическим» выражением — полупрезрительным превосходством, с каким мы обычно смотрим на муравья. Мой врач больше не шутил и не смеялся.
— Что же это вы, опять к нам? А я-то думал, что мы больше не встретимся, — добродушно квакал Лунц своим широким ртом, но за этим добродушием таился вопрос о причине постоянного конфликта с обществом. — В вашем возрасте, знаете ли, пора бы и остепениться, семьей обзавестись. Не женились еще? Что же так?
— Да вот, не успел…
— Не успели? Так заняты были? — И я шкурой чувствовал, как он записывает в тетрадь: «Равнодушен к своей личной жизни. Схваченность сверхценными идеями была такова, что «не успел» завести семью…»
Я прочел столько экспертных заключений Лунца о моих друзьях, что мог теперь за него составить себе заключение.
Нет, Лунц никогда не халтурил, никогда не выбирал легкого пути. Не станет он писать, как, например, писали Борисову ленинградские эксперты:
«Психическое состояние и поведение характеризуются… нарушением ориентировки и неправильным осмыслением окружающего. Так, госпиталь принимает за концлагерь, врачей за садистов…»
Или как написал профессор Наджаров Кузнецову в доказательство диагноза «шизофрения»:
«Утверждает, что никакого морального кодекса строителей коммунизма нет, а заслуга его создания принадлежит Библии».
Нет, Лунц слишком уважает себя и свою репутацию чистых дел мастера. Медленно, как паук, будет он опутывать паутиной свою жертву. Из каждой щербинки характера или излома судьбы сплетет такой доброкачественный симптом, что ни одна комиссия потом не придерется.
— Доктор, а почему у тебя такой большой рот?
— А чтобы лучше тебя схавать, Красная Шапочка!
Пикантность положения заключалась в том, что нам с ним предстояло говорить о психиатрических злоупотреблениях: я ведь обвинялся в клевете на советскую психиатрию. Тут Лунц рассчитывал найти бездну симптомов. Во-первых, переоценка собственной личности — неспециалист берется опровергать специалистов; во-вторых, мнительность, враждебность к психиатрам — очень типично для параноика; ну, а мое интервью с описанием спецбольницы — это, конечно же, искаженные впечатления психически больного. Словом, безграничное поле деятельности.
Он нарочно стал подчеркивать мое невежество, полную некомпетентность в психиатрии, надеясь задеть меня и вызвать эмоциональную реакцию. Но я был готов к этому.
— Позвольте, но я ведь и обратился к специалистам — к западным психиатрам. Послал им ваши заключения, другие документы.
Как ни странно, это было для него новостью — какие именно документы и заключения посланы, он не знал. Мы долго спорили об отдельных делах, но я был осторожен, не горячился, никаких утверждений не делал. Только на деле Горбаневской я прижал его к стене. Приоритет в психиатрии имеют те врачи, которые наблюдали больного раньше, в период обострения, и дольше других. Врачи, наблюдавшие Горбановскую десять лет, не нашли у нее шизофрении. Лунц — нашел. Главное же, Лунц никогда раньше не признавал вялотекущую шизофрению.
— Так вы все-таки считаете, что можете судить лучше специалистов? — защищался он.
— Ну, что вы. Вот я к вам, специалисту, и обращаюсь за разъяснениями.
— А кстати, почему вы действительно обратились к западным психиатрам, а не к советским?
— Я обращался. Они сказали, что среди них нет академика Сахарова. В частных беседах многие, однако, вас ругали и оспаривали ваши заключения.
— И что же они говорили? — живо заинтересовался Лунц.
— Что вы плохой клиницист, никогда не наблюдали динамики болезни и ваша диагностика — сплошное гадание.
— Ах, вот как! — обиделся Лунц. — И кто же это говорил?
Я только рассмеялся в ответ. Он был уязвлен. Как бы я ни оскорблял его, ничто не могло его так задеть, как мнение коллег, с которыми он много лет сидел на одних конференциях и симпозиумах. Ему, видимо, уже приходилось перед кем-то оправдываться, потому что он тотчас извлек какой-то свой психиатрический самиздат и начал обиженно доказывать, что на психиатров клевещут давно. Еще в XIX веке кто-то из отцов русской психиатрии публично осуждал инсинуации против психиатров, в то время как никогда, абсолютно никогда психиатры не злоупотребляли своей профессией.
— А как же Чаадаев? — изумился я.
— Вот видите, — ухватился он, — вы опять беретесь судить о том, чего не знаете. Чаадаева никогда не смотрел психиатр. Его смотрел просто придворный врач. Психиатров тогда еще не было.
И правда, повезло Чаадаеву. Не было тогда психиатров, спецбольниц, сульфазина, галоперидола, укрутки. Не было у Николая I своего придворного Лунца. Но мы-то с вами теперь понимаем, что была у Чаадаева самая настоящая шизофрения. Вялотекущая.
Я знал, что живым меня в этот раз из спецбольницы не выпустят — слишком обозлилась на меня вся эта банда. В лучшем случае — идиотом, лет через десять, пугать добрых людей. Ну да я этого дожидаться не стану.
Держали меня отдельно, в специальном изоляторе внизу. Не хотели держать со всеми подэкспертными, чтобы потом не рассказывали. А кроме того, боялись, что я ухитрюсь как-нибудь связаться с волей: слишком часто я здесь бывал, знал всех сестер, нянечек, надзирателей, и они ко мне хорошо относились.
А чтобы не скучал, посадили со мной такого же смертника — Андрюшу Козлова. Молодой паренек, лет 22, рабочий с какого-то крупного ленинградского завода. Однажды в заводском общежитии заспорил он с приятелями, что попадет из мелкокалиберного ружья в мишень на расстоянии ста метров. Ружье у них было, и он из окна попал в фонарь, действительно метрах в ста, висевший на территории завода, — общежитие находилось рядом, через забор.
— Я еще и дальше могу попасть, — похвастался Андрюша. — Вон туда, где дорожка к управлению. В директора могу попасть, когда он утром приезжает на работу.