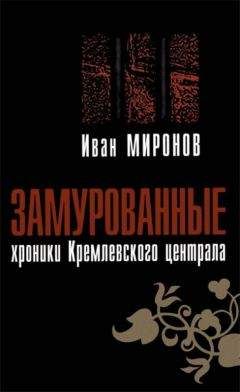— А что за жулик? — уточнил Костя.
— Не знаю. Нерусский какой-то. Ко мне сегодня передачка зашла, а я не стал из продуктов ничего брать, все там оставил. Не удобно, жулик…
— Понятно. Голодным не оставим, — прервал я скинхеда. — Как там Влад?
— Какой Влад?
— С которым ты в один семь сидел.
— А, этот. Нормально. Мы с ним мало общались. Он в основном йогой занимается.
— Вас уже судят?
— Ага.
— В раскладах?
— Ну, да.
— В чем обвиняют-то?
— Девятнадцать убийств, восемь покушений, ну и там по мелочи: пять сто шестьдесят первых[29], — парень дежурно оглашал подвиги, кидая взгляды в сторону холодильника.
— Сколько-сколько ты говоришь у тебя сто пятых? — Мне показалось, что я ослышался, хотя лицо Братчикова вытянулось не меньше моего.
— Девятнадцать, — вздохнул скинхед, почесав затылок, и добавил: — Групповых.
— Резали?
— Резали.
— Дело-то должно быть громким, — размышлял я, пытаясь сопоставить увиденное с услышанным.
— Рыно-Скачевский. Я с ними иду. Слышали, наверное?
— Со Скачевским больше года назад сидел на «девятке», — я живо вспомнил студента-горнолыжника, золотого медалиста, мама — школьный завуч, папа — полковник ФСБ.
— Как он? Ему, по-моему, вменяли только армяна. Как его… Карена Абрамяна, комерса-страховщика.
— Пашка признался в девятнадцати убийствах.
— Как?! Когда?!
— Его после «девятки» закинули на Бутырку. В первой же хате ему со старта разбили голову, уехал на больничку и начал говорить.
— Лихо раскрутился на девятнадцать трупов, — присвистнул Костя. — Хотя, если по малолетке, больше десяти не дадут. Значит, ему все одно, что грузиться за два тела, что за двадцать. Тебе-то совсем грустно. Сколько обещают?
— Лет пятнадцать. — Рома нервно защелкал пальцами.
— Ладно, давай с дороги чайку, покушать чего. — Костя пропустил скинхеда за стол.
— Кстати, познакомься. Григорий Петрович — маг и волшебник. Узнал?
— Ага. — Рома застенчиво кивнул, обхватывая клешню Фумитокса двумя руками, заискивающе с мистическим трепетом заглянул в глаза мошеннику.
— Григорий Петрович — смотрящий за хатой, — пояснил я.
— Веди себя осторожно, — со своей стороны предупредил Костя. — А то, коли чего, превратит тебя в лягушку.
— Хе-хе, — натужно закашлял Грабовой. — Я этого не делаю. Лучше так не шутить, а то установят психологический контроль.
— Достал ты, Гриша, своим контролем, — прорычал я.
— Это очень реально, — загундосил Фумитокс. — У меня один из адвокатов — психиатр. Потом юридический закончил и стал адвокатом. Он смотрит, чтобы мне психологический контроль не назначили.
— Наоборот, признают за идиота, съедешь на дурку, а там до воли рукой подать.
— Мне ни в коем случае нельзя этого допустить! — запротестовал Грабовой.
— Почему?
— Меня тогда к АЭС не допустят, и я не смогу обеспечивать их безопасность.
— Ха-ха. А так тебя допустят?!
— Конечно. Мне в тюрьму скоро компьютер передадут, смогу расчеты выполнять.
— А софт тебе специальный не нужен?
— Нет. Я расчеты могу проводить в любой системной оболочке.
Рома, разинув рот, внимал Грабовому, а тот меж тем, зачем-то сняв с общей вешалки свое черное пыльное пальто, повесил его за шконку аккурат над подушкой Латушкина.
— Что ты делаешь, Гриша?
— Риск надо минимизировать, я считаю, — пробурчал Грабовой.
Что имел в виду под сей загадочной фразой наш кудесник, выяснилось лишь на следующий день, когда наглотавшийся за ночь пыли Латушкин в отсутствии соседа решил перевесить обратно чужое пальтишко. Каково же было наше удивление, когда под длинным замызганным драпом оказалась стриженая норка, правда, слегка поистертая и побитая молью.
— Никакого вам, скинхедам, доверия, — рассмеялся я. — Похоже, Рома, крысу в тебе Гриша увидел.
Парнишка затаил обиду и вскоре воздал волшебнику за оскорбление. Быстро оценив ситуацию, Рома сменил суеверное почитание на хамство, перейдя с «Григория Петровича» на «Гришу», а то и попросту называл целителя «Гыр-гыром». Попала собаке блоха на зуб.
— Гриша, а Гриша! — как-то раз обратился скинхед к Грабовому. — Прикинь, у меня адвокатесса — твоя поклонница, даже, как ее, эта, обэп.
— Адепт, — поправил Латушкин.
— Во-во, адепт. Она самая. Как узнала, что мы вместе сидим, стала рассказывать, что благодаря тебе сестра ее от рака вылечилась, муж бухать бросил. Короче, обожает она тебя и говорит, что ты святой.
— Ну, это… — Гриша почесал пузо, соображая, как лучше среагировать. — Я считаю, что она не может делать такие выводы.
— Да мне пофиг, какие она выводы делает. Просто она очень хочет, чтобы ты ей подарил клок… нет, клокон…
— Локон, — подсказал Костя.
— Во-во, локон своих волос. Гриш, ты настриги децл, я ей снесу.
— Как это?! Так нельзя, — впал в оторопь волшебник.
— Да, ладно тебе. Не жмись! Жалко, что ли? Дай, волосенков-то! А моя баба-адвокат за это будет меня защищать бесплатно… Наверное.
— Не-не. Это исключено, — неуверенно выдавил из себя волшебник. — Волосы нельзя раздавать.
— Слышь, Гриша, — вмешиваюсь я в диалог. — На молодом, сам слышал, дюжина трупов числится. Как бы за отказ он ночью вместе с зачуханными патлами башку тебе не отрезал. Ведь могешь, Роман? — подмигнул я скинхеду.
— Не-а, — смутился парнишка. — Я же по-братски прошу. — Думаю, Гриша согласится. Да, Гриш?
— Нет. Нельзя волосы давать людям, которых даже не знаешь, — промямлил Грабовой, изображая поглощенность документами.
— Я, конечно, могу ей свои, как твои впарить, но у меня такие, как у тебя на голове, только на жопе, а даме с такого места как-то не интеллигентно…
Ромка оказался удобным арестантом, габарито-емким, покладистым и тихим. Единственное, что раздражало в нем — постоянное щелкание пальцами, которое заразительным нервяком бредило тюремное спокойствие. Весной ему исполнилось двадцать. С тюрьмой он свыкся, то ли оттого, что сидел уже год и четыре, то ли оттого, что воля для него беспросветней тюрьмы. До посадки за семь тысяч рублей в месяц Роман Кузин вкалывал курьером в виртуальном магазине: доставлял закомплексованным гражданкам силиконовые вставки для бюстгальтеров.
О жизни своей рассуждал Рома просто, здраво и по-детски прямо.
— Рома, как ты думаешь, что такое успех?
— Ну, это когда у человека получается множество дел, — взяв короткую паузу, сформулировал скинхед.
— Тогда, что такое счастье?
— Когда человек ни в чем не нуждается. Все хорошо.