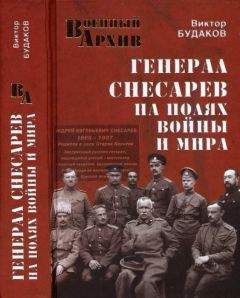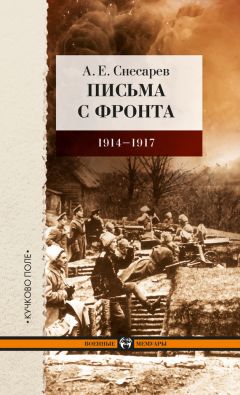Изданный временной властью приказ об омоложении армии преследовал цели более политические, идеологические, групповые, нежели военно-благоустроительные.
Среди первых попал под этот приказ комкор Кознаков, один из самых уважаемых Снесаревым в генеральском корпусе. Вскоре по той же редакции, что и Кознаков, отчислен Нечволодов; Снесарев полагал — за «Сказания о Русской земле».
В конце марта ему было предложено принять 159-ю пехотную дивизию. Поскольку он значился по фронту тридцатым, если не далее, кандидатом и поскольку Кознаков уже ушёл, Снесарев, не раздумывая, согласился. Дивизия располагалась около Трембовли, командовал ею генерал Черемисов, который принял Двенадцатый корпус. «Что за дивизия, не знаю, — пишет в тот же день жене, — но она находится в резерве и по слухам трудится, маршируя с красными флагами. Ну, это дело временное и налётное: в нашем корпусе я достиг того, что решительно никаких манифестаций не было, а красные бантики носили 2–3 дня, да и то одиночные люди…» Тут же не забывает и семейного переезда из Петербурга — где вернее остановиться, где спокойнее: казачий ли хутор Самсонов, или уездный Острогожск. В письме снова строки веры в лучшую будущность своего народа: «В мою великую страну и мой великий народ я верую прочно, верую в его жизненность, в его здравый смысл и глубоко убеждён, что из невзгод и испытаний он выйдет не разбитым на куски, а могучей и единой семьёю 170-миллионного народа».
В апреле — опять о том же, словно он сам себя убеждает: «Я верую в здравый смысл русского народа, который в глубине своих здоровых нервов и ещё свежего разума найдёт прочный источник для дальнейшего благого и здорового государственного строительства».
Per aspera ad astra? Метафорически-романтическое понимание государственного строительства и даже космического пути, высказанное вскоре после снесаревского письма молодым воронежцем Платоновым, звучит так: «Русскому мужику тесны его пашни, и он выехал пахать звёзды».
А Родина за двадцатый век и руинно разрушалась, и высотно возрождалась. Народ, строя и воюя, теряя лучших, угасая в пассионарности на предельных своих и мировых разломах, всего испытал: и земных терний, и космического взлёта своих сыновей, и надежды полумира, и ненависти полумира. И через несколько десятилетий после снесаревского письма — крестьянского рода философ Зиновьев, эмигрировавший, поглядевший на заокеанские свободы и вновь возвратившийся, трагически увидит и предскажет: «Впереди самый страшный этап антирусского проекта: он касается присутствия русских в истории человечества. Сущность этой части проекта — постепенно искажая и занижая вклад русских в историю, в конце концов исключить из памяти человечества все следы их пребывания в истории вообще… Это “вычёркивание” русских из истории уже практически происходит. Причём делается это педантично, планомерно. Такая фальсификация истории не раз делалась в прошлом. А с современными средствами это — заурядная проблема».
И как же трудно устоять, если, при очевидной любви к своей многостральной родине, даже такие чуткие и глубокие люди, как Зиновьев, по его же признанию, «целились в коммунизм, а попали в Россию»; а при очевидной ненависти — сокрушать Россию не требуется никакого искусства. Большое зеркало разбивается на мелкие куски…
Или «Мы есть и будем» — несмотря на миллионнократно просчитанный тотальный, глобальный план руссоненавистников?! Но для этого надо — устоять. А чтобы устоять — надо видеть и понимать. А чтобы видеть и понимать — надо знать прошлое мира и чувствовать будущее мира. И если бы только это…
Здесь уместно сказать вот о чём. При любой, самой трагической, жизнеломающей, жизнеобрывной участи нашего народа, русский мир как православная цивилизация, как духовное явление, как метафизическая страна останется жить в вечности, пока не будет положен предел человеческому существованию на земле. И тому подтверждение — даже историческое, генетическое, кровное, пусть и грустное: русские сотнями тысяч крепких пахарей и кротких прекрасных женщин уводились на невольничьи рынки Востока и Запада, миллионами уходили в эмиграцию после внутригосударственных русских смут, и по всей планете, во всяком случае, в Европе, Азии и Америке, вне России русская кровь, перемешавшись и породнясь с другими кровями, живёт-пульсирует в созидательной жизни человечества. И если даже народы, меньшие численностью и духовно-культурным наследием, именами и событиями, неуничтожимы (у Бога всегда бессмертие и дитю малому), то большое вневременно сохранится во всеобъемлющем архиве Творца.
К 4 апреля 1917 года Снесареву приказано быть в 159-й дивизии, дислоцировавшейся на правом фланге Двадцать второго корпуса Седьмой армии. «Участок самый плохой и со стороны противника наиболее активный: прут германцы и турки, ведут минные галереи, работают бомбомётами, миномётами и т.д.».
Из Тысменицы ехал через Коропец, Бучач (знакомые и когда-то смертельно опасные — узнаваемые и неузнаваемые) в Струсов. Было ветрено, пронизывающе холодно. Встретился с Черемисовым «просто, отдалённо дружески». Владимир Андреевич Черемисов, недавний начальник дивизии, назначенный командовать Двенадцатым корпусом, а вскоре и армией (Восьмой) и даже армиями Юго-западного и Северного фронтов, всё-таки более известен не как практик, а как сильный военный теоретик, составивший в Императорской академии Генштаба незадолго до Первой мировой войны вместе с Н.П. Михневичем, Д.Г. Щербачёвым, Н.Н. Головиным, А.Г. Елчаниновым, АА. Незнамовым, А.К. Келчевским удивительно яркое созвездие. Общо знакомя Снесарева с обстановкой, Черемисов вынужден был признать, что дивизия обделена и бедна артиллерийским и конным парками, да и толковыми офицерами. Правда, выяснилось, что в дивизии, расположенной в Сюлке, Ахалкалинским полком командует Владимир Георгиевич Шепель, близкий по 64-й дивизии. Значит, на один полк уже можно было положиться.
Но пойдут ли остальные полки на позиции? «Полки двинулись, а затем отказались, затем была вынесена резолюция, что не могут, т.к. позиция в дурном состоянии, нет проволоки… Части совершенно развинчены и небоеспособны… Чувствуешь себя в не совсем покорённом городе… могут подстрелить, могут забунтовать».
Теми же днями Снесарев снова встречается с Черемисовым, они долго и душевно говорят, на многое у них родственные взгляды, хотя, конечно, дивизия расхаживает с красными бантами, политиканствует из-за попустительства и неуместной мягкости именно Черемисова, который, как мог почувствовать Снесарев, «человек простой, несложный, жизненный».