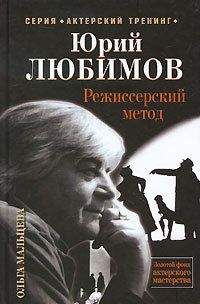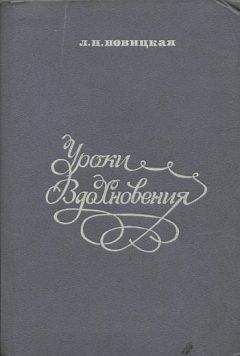А почему в два часа ночи мы оказались в Латинском квартале? Да потому, что ужинали в ресторане «Купол». Что же так поздно? Были на спектакле, который и послужил причиной написания этой главы. Но сначала о «Куполе».
О таких знаменитых кафе обычно говорят с придыханием: «Там в двадцатых годах собирались…» и т. д. На самом деле это огромный зал, набитый людьми, которые, в свою очередь, набивают рты мясом, рыбой, овощами, иногда устрицами, креветками. Чтобы получить столик, надо ждать пятнадцать — двадцать минут, предварительно записавшись у господина, следящего за заполняемостью зала. Можно ждать у стойки с напитками, и тогда ожидание не так утомительно. Когда освобождается место, вашу фамилию выкликают громко, как в поликлинике при сдаче анализа крови, и предоставляют вам столик с немедленным обслуживанием. Фабрика ночного заглатывания пищи!
Недалеко от нас сел свежевыбритый мужчина — будто сейчас 10 часов утра, и он отменно выспался. Заказал себе сытный ужин, развернул свежую газету. Кто он? Часы показывают половину третьего ночи. Он не спешит, никого не ждет, просматривает газету.
Официанты солидны и снисходительны. Принимают заказ так же, как и у нас, смотря в сторону, но подают быстро. На сладкое жена заказала что-то изысканное. Это вызвало небольшое совещание трех официантов, в результате чего нам было сказано, как нечто экстраординарное и сверхпечальное, что заказанное кушанье надо ждать двадцать минут. Мы готовы были ждать и больше, но… подчиняясь создавшейся атмосфере чего-то непоправимого и пугающего (ждать!), согласились на обычное простенькое сладкое, которое нам тут же с душевным облегчением официант поставил на стол.
Стрелка часов стремилась к цифре три, и каждого посетителя, покидающего знаменитый ресторан, официанты стали провожать с нежной симпатией. Где-то вдали зала раздался звон упавшего подноса с посудой. «Кто упал?» — профессионально привычно спросил официант в черном у официанта в белом. А ночные посетители наградили «катастрофу» дружными аплодисментами.
Мне понравился этот огромный зал, в котором все усиленно жевали и громко разговаривали. Поздно, мы собираемся уходить. У официантов и у девушки, приносящей пальто, глаза засветились любовью и нежностью к нам.
Все это не такие наблюдения, чтобы долго останавливаться на них. Может быть, я и не стал бы делиться ими, если бы они не оказались случайно антуражем главного события вечера. А о нем рассказать стоит.
В небольшом, с умышленной нарочитостью запущенном театрике Парижа «Bouffes du Nord» известный драматический режиссер Питер Брук поставил оперу Бизе «Кармен». Так по крайней мере говорили. На самом же деле Брук поставил спектакль, являющийся не оперой Бизе и даже не инсценировкой новеллы Мериме, а самостоятельной версией судьбы Кармен.
Мериме сочинил прекрасную новеллу, Бизе — гениальную оперу. Взаимоотношение этих произведений, очень разных по художественным и этическим принципам, долгие годы будоражит воображение художников. Кармен, как и Дон-Жуан и Фауст, стала всеобъемлющим и многогранным персонажем, органично вошедшим в нашу жизнь. В Кармен, так же как в Дон-Жуане или Фаусте, раскрываются такие противоречивые черты, что невозможно их вместить в понятие единого образа.
Кармен у Бизе — а именно эта Кармен утвердила себя вечной загадкой в мире искусства, беспокоящей каждого, кто хочет понять мир человека, — полна противоречий. Это характер трагичный и жизнелюбивый, фатальный и волевой. Он вызывает жалость, ненависть и восхищение. Кармен женственна и груба, властолюбива и покорна. Это — уникальный образ смерти в искусстве: смерти — триумфа, победы над собой, над своими склонностями и привычками. Я как оперный режиссер не могу найти больших доказательств величия образа Кармен и уникальности ее смерти (смерти не случайной, не неожиданной, смерти утверждающей, прославляющей жизнь, торжествующей), чем указание на фа диез, мажорное трезвучие, фанфарно торжествующее победу в финале оперы. Смерть Кармен — это смерть-праздник!
Кармен у Мериме — образ, полный неожиданностей и обаяния. Она молода и нерасчетлива. Это-метеор, освещающий мир странным, непривычным светом, но быстро исчезающий. У Бизе Кармен — великая мудрость и неисчерпаемость жизни человеческой. Это даже не многогранность, это общность, нечто тотальное, всеобъемлющее, вне наций и времен, всех касающееся, на всех похожее, всеми любимое, всех пугающее и поющее славу трудной, многоликой, необъятной жизни. Так уж получилось у Жоржа Бизе. И получилось не без помощи умных драматургов Мельяка и Галеви. Не назовешь эту оперу испанской, не во всем она и французская. Она близка всем нациям.
Конечно, многомерность образа подавляет, и каждый из нас принимает в нем ту часть, которая соответствует его нравственному масштабу. Сколько было, есть и будет исполнительниц этой сверхгероини! Исполнительниц разных не только по дарованию, но и по пониманию жизни и ее самого дорогого детища — любви. А сколько режиссеров искали себя в Кармен и в себе натуру Кармен, натуру сложную, загадочную. Ставили по-разному, играли по-разному и всегда или почти всегда была у спектакля однотипная удача или, может быть, лучше сказать, всегда была неудача. Даже самая лучшая постановка оперы оставляет чувство неудовлетворенности. Неудача, извинительная потому, что слишком велик объем эмоциональных, этических, общественных и личных комплексов драматургического узла, соединившего характеры Кармен, Микаэлы, Хозе и Эскамильо.
Наивно утверждать и доказывать мысль о том, что Кармен любила «лишь Хозе» или «лишь Эскамильо». На заре своей режиссерской деятельности я убедительно доказывал, листая партитуру оперы, что единственной и вечной любовью Кармен была ее любовь к Хозе, с нею она и умерла. Но другие доказывали обратное: Кармен полюбила в первый раз Эскамильо, он ее избранник. «Посмотрите, — говорят они, — в первый раз Кармен повторяет чужую музыку, музыку Эскамильо, сливаясь с ним в дуэте последнего акта».
Казалось бы, раскрыта партитура, все разложено по полочкам, во всем должна быть ясность. И мы не замечаем, как вместе с этим «порядком» начинает торжествовать примитив. Но если представить себе, что после спектакля возможно было бы встретить настоящую Кармен, не человека, нет, а великий образ человека, созданный великими художниками, и спросить ее: «Кого же вы все-таки любили? Хозе? Эскамильо?» И она бы, эта настоящая Кармен, ответила на этот вопрос ясно, четко, определенно и однозначно — кто знает, не потеряли ли бы мы тогда один из величайших художественных образов, созданных человечеством?