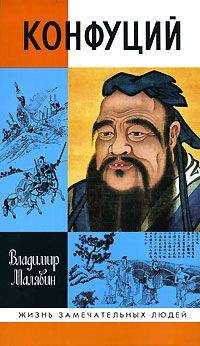Как и прежде, Конфуций отдавал предпочтение тем из своих учеников, кто более других был привержен внутреннему подвижничеству духа и не спешил «показать себя». По-прежнему он объявлял образцами для подражания своих давних любимцев, двух скромных бедняков – Минь Суня и Янь Юаня, которые, как и двадцать с лишним лет назад, жили в безвестности, ничуть этим не тяготясь. Особенное восхищение Учителя Куна вызывал Янь Юань – тот, кто умудрился быть и беднее, и молчаливее учителя, а о служебной карьере и слышать не хотел. По словам учителя, Янь Юань был в школе единственным, кто воистину любил учиться. «Вот мое учение!» – любил объявлять Конфуций, показывая на Янь Юаня, и, возможно, не только в шутку, но и с большей, чем кажется на первый взгляд серьезностью, если вспомнить, что правда Учителя Куна – это не абстрактная идея, а просто человеческое в человеке, интуиция, предвосхищающая и опыт, и знание.
Эта глубинная человечность выражает себя, впрочем, в полном само-отстранении от субъективных чувств и мыслей. Конфуций особенно восхищался Янь Юанем потому, что тот «никогда не переносил гнев на других». Это свойство характера Янь Юаня снискало ему в конфуцианской традиции славу мудреца, чье сознание и вправду подобно чистому зеркалу: он только принимает в себя внешние образы, но не пытается ими завладеть, чтобы впоследствии спроецировать на других. Это не означает, конечно, что конфуцианский мудрец вовсе лишен чувств. Просто он не отождествляет себя со своей субъективностью и тем самым не создает почвы для чрезмерной чувственности и разного рода психических комплексов. Знакомый нам Чэн И говорил по поводу образцовой умиротворенности Янь Юаня: «Некоторые, претерпев обиду у себя дома, дают волю своему гневу на улице. Но в мудром гнев вспыхивает лишь сообразно обстоятельствам, и сам он к нему непричастен. Благородный муж – господин вещей, а низкий человек – их раб».
Перед учениками Учитель Кун не скрывал, что красноречию и славе предпочитает молчание и скрытность. Однажды он напрямую спросил богатого и удачливого на службе Цзы-Гуна, не считает ли тот себя выше Янь Юаня, и был очень доволен, услышав от Цзы-Гуна, что тот даже не смеет сравнивать себя с этим достойнейшим учеником. Судя по этому разговору, любовь Учителя к великому молчуну Янь Юаню, который, казалось бы, ничем не выделялся среди своих товарищей по школе, была для многих большой загадкой. Но ведь загадкой была и сама мудрость Конфуция. Называя Янь Юаня своим «учением», Конфуций, надо думать, нисколько не лукавил: Янь Юань и в самом деле представал воплощением правды внутренней жизни. Необыкновенная скромность, почти полностью стиравшая его субъективное я, должна была восприниматься как обещание неисповедимого духовного богатства, «обители дальней» сосредоточенного внутреннего труда, каковым, по существу, и была школа в представлении Конфуция. Среди его многочисленных учеников только Янь Юань был живым воплощением безмятежного покоя духа, сопутствующего «знанию своего Пути». Только Янь Юань выдавал тайное духовное родство учителя с умиротворенными отшельниками. И, кажется, только Янь Юань, покинув этот мир, стал Конфуцию, «недосягаемому» для земных людей, настоящим другом…
Любопытно, что китайские толкователи расходятся в оценке духовных достижений Янь Юаня. Чэн И, например, заявлял: «Если Янь Юань радовался Пути, он не мог быть Янь Юанем».
Действительно, радость Пути – в преодолении себя, и мудрец, по Конфуцию, «радуется Небу» в себе. Но преодолеть свое маленькое «я» – значит вернуться к своей настоящей самости. Поэтому в конфуцианской литературе часто можно встретить утверждение о том, что мудрый «радуется тому, что есть он сам».
Так, для Конфуция счастье в том, чтобы возвращаться к себе, открывая себя Небу, то есть «полноте своей природы». Мудрец, словно могучий дракон, «не имеет установленного облика». Конфуций умудренный, то есть «живущий в праздности», все больше отходит от всех формальностей в деле обучения. И значит, все больше сближается с учениками, все больше доверяет им. Его единственным педагогическим инструментом остается живая, подлинно свободная беседа, рождаемая ищущей мыслью, глубоко осмысленная и нравственно значимая в каждом ее слове. Эта беседа питается счастливым парадоксом: стать самим собой, преодолев себя. Поэтому она проникнута добродушной иронией, расцвечена блестками ненарочитых шуток.
Эта глубинная человечность выражает себя, впрочем, в полном само-отстранении от субъективных чувств и мыслей. Конфуций особенно восхищался Янь Юанем потому, что тот «никогда не переносил гнев на других». Это свойство характера Янь Юаня снискало ему в конфуцианской традиции славу мудреца, чье сознание и вправду подобно чистому зеркалу: он только принимает в себя внешние образы, но не пытается ими завладеть, чтобы впоследствии спроецировать на других.
Это не означает, конечно, что конфуцианский мудрец вовсе лишен чувств. Просто он не отождествляет себя со своей субъективностью и тем самым не создает почвы для чрезмерной чувственности и разного рода психических комплексов. Знакомый нам Чэн И говорил по поводу образцовой умиротворенности Янь Юаня: «Некоторые, претерпев обиду у себя дома, дают волю своему гневу на улице. Но в мудром гнев вспыхивает лишь сообразно обстоятельствам, и сам он к нему непричастен. Благородный муж – господин вещей, а низкий человек – их раб». Знание специальные и технические, отвлекавшие от духовного совершенствования, Конфуций, по-видимому, считал опасным соблазном и демонстративно их сторонился. Это и понятно: всеединство и полнота истинной добродетели плохо уживаются с предметным знанием. Ученик Фань Чи, служивший, подобно Жань Цю в свите Цзи Канцзы и интересовавшийся хозяйственными делами, однажды вызвал большое неудовольствие Учителя тем, что стал расспрашивать его о земледельческом труде. «Об этом надо спросить у крестьянина!» – с досадой отрезал Конфуций. Если в высшем свете он со временем все более замыкался в панцире официального этикета и холодной вежливости, с учениками он вел себя все более непринужденно, ведь в их кругу излишняя церемонность могла даже повредить, если бы она показалась кому-нибудь признаком недоверия. Обычно он даже не устраивал специальных занятий, а просто подзывал к себе одного-двух учеников и проводил в их обществе несколько часов, занимаясь разными домашними делами. Говорил односложно, весомо, с какой-то ненавязчивой, но неоспоримой убедительностью. Как прежде подолгу сиживал во дворе своего дома, глядя задумчиво вдаль, невозмутимо слушая разговоры сидящих рядом учеников и время от времени трогая шелковые струны своей цитры. И это был, быть может, главный его урок: он показывал, являл воочию, что такое безмолвие праведного Пути, что такое свобода и гармония жизни, обретаемые в возвышенном молчании. Теперь он все чаще советовал своим питомцам не обольщаться красивыми словами, а самим быть опорой себе: