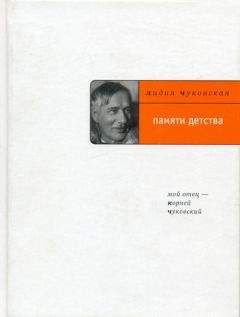Где это – Ливурна? Что это – Элизий? Не знаю. Что-то золотое в этих многочисленных «з»: лазоревый, завтра, Элизий, завтра, земной. Нет, знаю: «земной Элизий» – что-то блаженное из чистого золота, к чему он стремился, – и вот он достиг его.
…Наедине мы с морскими волнами;
Только что чайка вьется за нами
Белая, рея меж вод и небес.
Сколько уж раз видела я и слышала чаек! Но то, на какую высоту вознесено в стихе Баратынского слово «белая», и то, как подчеркивал эту ритмическую высоту голос, произносящий строку с крошечной паузой после первого слова: «Белая (пауза), рея меж вод и небес», – заставило меня впервые ощутить пространство между волнами и небом и чайку, играющую этим пространством.
Мне шесть лет. Через два года я пойду в гимназию и там, с годами, на уроках географии, я узнаю, где находится город Ливорно, и на уроках истории – что такое Элизиум. А быть может, и сам он, в какой-нибудь зимний вечер, раскроет том «Энциклопедии Британника» и покажет нам карту Италии и Средиземного моря. Но сейчас, из этого голоса, из этих стихов, я узнаю нечто такое, что невозможно узнать ни из какого учебника географии, ни из какой энциклопедии, – могущество волн, могущество воли, огромность мира, заманчивость чужбины и путешествия. Эти познания, кроме как из произведений искусства, нельзя извлечь ниоткуда, – разве что проделав в действительности тот же путь через Средиземное море. Впрочем, и тогда не узнаешь, что «башни Ливурны» не просто башни итальянского города, а исполненный сон.
На моем веку мне довелось множество раз слышать чтение стихов. Читали актеры и читали поэты. Я слышала Яхонтова, Антона Шварца, Качалова, Журавлева. Каждый из них исполнял стихи в своей, одному ему присущей манере. Слышала поэтов – Маяковского, Блока, Ахматову, Цветаеву, Кузмина, Мандельштама, Гумилева, Ходасевича, Пастернака, Клюева, Есенина, Заболоцкого, Твардовского, Берггольц, Маршака, Петровых, Введенского, Хармса, Квитко, Корнилова, Самойлова, Межирова, Иосифа Бродского, Кушнера, Слуцкого, Все они тоже, разумеется, читали каждый по-своему. То разговорная, то патетическая интонация Маяковского нисколько не напоминала скрыто страстное, а внешне сдержанное чтение Блока (казалось, своим глуховатым голосом он печально перечисляет слова – и только); слышала открытое, настежь распахнутое чтение Пастернака, ничем не напоминающее суровость, серьезность и замкнутость чтения Ахматовой (да, открывая себя, она оставалась замкнутой) – и все-таки чтение поэтов, самое разное, чем-то неуловимо родственно одно другому и противоположно актерскому; поэты не своевольничают со своими стихами, хотя, казалось бы, им, хозяевам, все можно; они читают, повинуясь невидимым нотам, заложенным в каждой строке, движению ритма, которое, совпадая с движением мыслей и чувств, совпадая с дыханием, и создает властность, всемогущество стиха. Актеры же вольничают, стремясь один – создать «настроение», другой – «образ героя», третий – «образ автора», – вообще проиллюстрировать стих, обогатить его, кто жестом, кто голосом, не доверяя власти его самого.
(Никогда не забуду, как Качалов, читая блоковские строки:
Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо, —
делал такое движение рукой, будто выбрасывал заветное кольцо в форточку, а произнося в «Скифах» строку «Ломать коням тяжелые крестцы», – показывал, будто ломает палку.
Слово и ритмический строй казались ему здесь недостаточно выразительными. Он приходил им на помощь.)
Корней Иванович читал стихи не по-актерски, а так, как читают поэты. Читал, стараясь не вносить ни в интонации, ни в ритм никакой отсебятины, а напротив, и голос, и все свое естество подчинять движению ритма, что делает внятным смысл даже самых сложных стихов даже для малолетних детей. Вот почему в его чтении нам становились понятными и те стихи, в которых во множестве встречались непонятные слова или изображались происшествия, недоступные нашему опыту.
Слов на этих морских прогулках, прогулках в поэзию, он не объяснял нам почти никогда, провозглашая только имя поэта, желая, чтобы мы научились узнавать единственную в мире интонацию, не смешивая ее ни с чьей чужой, так, как в детстве без труда привыкли отличать ель от сосны, осину от березы. Вот это Баратынский. «Парус надулся. Берег исчез». Слышите? А вот это Некрасов. «Горе горькое по свету шлялося». Немыслимо спутать одного с другим.
Он часто играл с нами в такую игру: читал нам какие-нибудь неизвестные дотоле стихи, предлагая угадать автора, а когда моему брату было уже лет десять, а мне семь, объяснил нам основные размеры, показал их обозначения и затеял игру: кто скорее на слух определит размер. А еще позже он стал рассказывать нам биографии поэтов: Шевченко или Байрона, Пушкина или Лермонтова. А еще позже – демонстрировать соотношения между размером и ритмом.
Но все это наступило потом.
Тогда же, в Куоккале, в лодке, он не ставил себе целью обогащать нас познаниями, а всего лишь счастьем.
И счастье это исподволь учило нас познавать мир. И Россию.
Круглый год мы проводили в Финляндии. Россией был для меня в ту пору всего лишь Суворовский проспект в Петербурге, да еще Таврический сад, куда нас водили гулять, когда я была совсем маленькая. В настоящую Россию, в деревню под Порховым, я попала уже тринадцати лет. Москву увидела впервые – шестнадцати, а просторы России, пролетающие мимо вагонного окна, – семнадцати, по дороге в Крым. Но уже пяти или шести годов от роду я узнала что-то главное о России из некрасовских ритмов, передаваемых чтением Корнея Ивановича.
О подневольности изб. Об их беззащитности. О разлуке. О встрече. О смерти.
Все рожь кругом, как степь живая,
Ни замков, ни морей, ни гор…
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор!
Тут и «спасибо» звучит как стон, и простор не только врачует, но и ранит, и сторона родная сродни рыданию. Это и было мое первое, полученное в дар от Некрасова, ощущение России.
А «Мороз, Красный нос»?
Сурово метелица выла
И снегом кидала в окно,
Невесело солнце всходило:
В то утро свидетелем было
Печальной картины оно.
Эта третья рифма в его произношении была третьим приступом боли. Кажется, «выла», «всходило» достаточно, чтобы изнемочь, и голос изнемогал, а это третье добавочное «было» – этого уже почти и перенести невозможно:
Сурово метелица выла
И снегом кидала в окно,
Невесело солнце всходило:
В то утро свидетелем было
Печальной картины оно.
Савраска, запряженный в сани,
Понуро стоял у ворот,
Без лишних речей, без рыданий,
Покойника вынес народ.
– Ну, трогай, саврасушка! трогай!
Натягивай крепче гужи!
Служил ты хозяину много,
В последний разок послужи!..
Без рыданий? Самые эти стихи – рыдание. Над беззащитностью родного простора. Над тщетностью труженичества. Рыдание слышно здесь с не меньшей явственностью, чем в строках, где названо открыто: