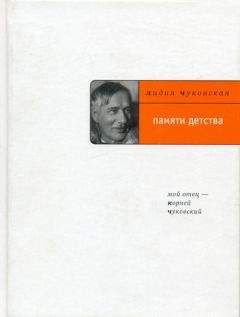Объяснять это все мне в ту пору он, разумеется, не мог, но и обижать ему меня не хотелось.
– Вот что, Лидочек, – говорил он извиняющимся, вкрадчивым голосом. – Давно я тебе ничего не рисовал. Вот, гляди – я буду рисовать, а ты угадывай.
Пером или черным карандашом он рисовал карикатуры – очень меткие. Сразу можно было угадать кто – кто. Впереди носатый булочник в картузе, с черным кругом и плетеной корзиной на голове, – тот самый, что приносит нам по воскресеньям выборгские крендели. Кажется, будто слышишь скрип его корзины. А вот это – репинский дворник, он же кучер. Тот, который позволяет мне заплетать косичками гриву лошади Любы.
А вот и сама Люба. Ее старая добрая морда.
Но сегодня я не радовалась картинкам. Будто я не понимаю! Он просто хочет, чтобы я не мешала Коле. И для этого рисует дворника и лошадь.
А Коля захватил весь берег. Все мои любимые камни. И так чуть не каждый день. Сколько раз я уже слышала:
– Боба, Лида, не ходите в ту сторону! Там Коля мечтает!
Не надо мне картинок. Мне нужна справедливость.
«– И вот кони сшиблись в богатырской схватке. И вот всадники крючьями вцепились друг другу в пояса… И вот Илья уже летит через гриву лошади – наземь…»
Игрою игр нашего детства было море. С утра мы бежали на берег взглянуть: виден ли Кронштадт? Хорошо ли виден? Не тает ли он на горизонте, не затягивается ли мглой? Кронштадт – наш барометр. Синяя плотная наклейка на голубом небе и золотой купол собора. Отчетливо видные, они, как стрелка, указывают мореплавателю: «ясно».
Теперь… теперь только бы он до сумерек окончил работу!
Слоняясь возле крыльца веранды, мы прислушиваемся к звукам на втором этаже.
Идет! Веселый! С лестницы через две ступеньки!
Выговаривает громким свистящим полушепотом:
Частию по глупой честности,
Частию по простоте,
Пропадаю в неизвестности,
Пресмыкаюсь в нищете.
Веселый! Едем!
Он не зовет нас, нас не замечает, не подает нам никакого знака. Высоко задрав подбородок, с видом бесстрастным и замкнутым, большими шагами шагает к берегу – будто намерен отправиться в море один… Но мы не пугаемся нисколько; лодочный ритуал давно уже разработан в малейших подробностях, и то, что наш капитан, задрав голову, бесстрастно шагает мимо, тоже входит в игру. Никуда он без нас не уедет! Мы разбегаемся – каждый по своему назначению. У каждого своя морская обязанность. Боба уже мчится в сарай за черпаком. Коля и Павка волочат тяжелые весла, две пары. Ида – уключины. Матти – багор, а я – я именуюсь «хранительницей пресной воды» и несу с ледника заткнутую пробкой холодную бутыль. (Впоследствии в пьесе «Царь Пузан» он написал для меня роль «Хранительницы королевской зубочистки».)
Поджидая нас, он уже успел перевернуть и столкнуть на воду тяжелую широкую рыбачью лодку. Руля на ней нет, вместо якоря – камень, обвязанный канатом. Зато она хоть тяжела, да вместительна. Он быстро нагружает ее всею снастью: уключинами, веслами, якорем-камнем – и приказывает садиться: Коле или Матти на среднюю скамейку, остальным – куда попало, на корму, на нос, на дно; закатывает штаны повыше, спихивает лодку с мели, на которую она плотно уселась, чуть только в нее плюхнулись мы, потом, накренив ее, сам ступает через борт и, выпрямившись во весь свой огромный рост, принимается ловко работать веслом, а то и багром, пока не выводит судно на глубокую воду. Тут уключины в гнезда, весла в уключины – пошли! Минуту дело не ладится, весла бултыхаются не враз, он покрикивает на Колю, но вот ритм ухвачен, и четыре весла, со стекающими с лопастей каплями солнца, мерно взлетают и снова опускаются в воду.
Гладь почти безветренная. Мелкие волнишки мирно толкаются о борт. Широкий след за кормой. Простор, вода и небо. Воздух такой чистый, что каждый вздох ощущаешь как глоток свежей воды. Лодка идет легко, спокойно, устойчиво, чуть-чуть пожурчивает вода за бортом.
Хочется не говорить, а молчать.
Мы и молчим, глядя, как удаляется берег.
Молчим, покорные этому щедрому бескрайнему свету, этому подрагиванию и покачиванию. Вот уже и первая чайка. Вот уже не видно камней на нашем берегу. Вот уже и людей не видать. Вот уже слились в одну густую, плотную, черную толпу редкие прибрежные сосны, и за этой колышущейся толпой неразличима наша дача.
Лодка быстро идет вперед, послушная взмахам весел. Глядя, как они оба, он и Коля, без усилий взмахивают веслами, слегка приподнимаясь над скамьями и снова опускаясь на скамьи, мне кажется, что ничего проще гребли и на свете нет. Но когда один раз, вняв моим мольбам, Корней Иванович усадил меня рядом с собой и дал мне в руки весло – всего одно для начала! – я не в силах оказалась не то что закинуть, даже удержать его. Впрочем, мне не было тогда и шести. Через несколько лет, покидая Куоккалу навсегда, я уже свободно справлялась с лодкой.
Как осваивал море наш капитан, рассказано им впоследствии в тех же воспоминаниях о Борисе Житкове.
«Никогда не забуду, как ранней весной он стал учить меня гребле – не в порту, а на Ланжероне, у пустынного берега, взяв для этого шаланду у знакомого грека-Требовательность его не имела границ. Когда у меня срывалось весло, он смотрел на меня с такой безмерной гадливостью, что я чувствовал себя негодяем. Он требовал бесперебойной, квалифицированной, отчетливой гребли, я же в первое время так сумбурно и немощно орудовал тяжелыми веслами, что он то и дело с возмущением кричал:
– Перед берегом стыдно!..
Вскоре я настолько освоился с греблей, что Житков счел возможным выйти со мною из гавани в открытое море, где на крохотное наше суденышко сразу накинулись буйные, очень веселые волны.
До знакомства с Житковым я и не подозревал, что на свете существует такое веселье. Едва только в лицо нам ударило свежим ветром черноморского простора, я не мог не прокричать во весь голос широких, размашистых строк, словно созданных для этой минуты.
Зыбь ты великая! Зыбь ты морская!
Чей это праздник так празднуешь ты?»
И здесь, на Финском заливе, ясный солнечный день, мерные взмахи весел, ожидающие лица детей рождали в нем жажду читать стихи. Жажда эта жила в нем неутолимо: поэзия смолоду и до последнего дня была для него неиссякаемым источником наслаждения. Стихи он читал постоянно и всегда вслух: себе самому, один на один, у себя в кабинете, Репину в мастерской и репинским гостям в беседке; захожим студентам на песке у моря; друзьям-соседям: Николаю Федоровичу Анненскому, Татьяне Александровне Богданович и Короленко, нам по дороге на почту. И уж конечно в море. Тут, в море, он давал себе полную волю. Ритм волн и ритм гребли естественно выманивали в ответ ритмический отклик.