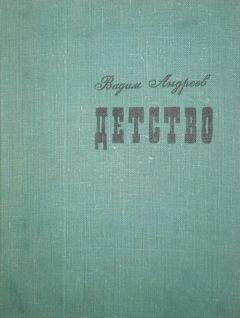Быть может, в эту же ночь, во всяком случае вскоре, еще до моего переезда из детской наверх, во второй этаж, мне приснился сон, повторявшийся потом с теми же подробностями несколько раз. Мне снилось, что в комнату, где находится кроме меня еще много детей, вбегает Анна Ильинична. На ней белое широкое платье, голова повязана по-деревенски — узорным платком. Она начинает вынимать из карманов, из-за корсажа, из рукавов, отовсюду, толстые розовые сосиски и раздавать их нам. Сосиски как живые: они вертятся, извиваются жирными червями, я их кусаю, с трудом преодолевая брезгливость, они наполняют мне рот, вязнут на зубах. Задыхаясь, в ужасе, я просыпался и начинал кричать. Я помню, как однажды, когда моего плача никто не услышал, я выскочил из кровати и, упав на пол, начал кричать в щель, в шершавые доски, призывая Дочку, — мне казалось, что так она скорее услышит.
Вскоре в нашем доме поселился студент, Михаил Семенович, — мой первый учитель, и я перебрался во второй этаж, в комнату, с тех пор ставшую моей. Михаила Семеновича я возненавидел с первого же дня его появления и не потому только, что он явился непосредственно на смену Дочке. Был он очень красив собою, высокий, стройный, с черными усами и острой бородкой клинышком. По происхождению донской казак, он самоучкой добрался до университета и попал к нам совершенно случайно, по объявлению. По-видимому человек не совсем заурядный, он обладал совершенно беспощадной жестокостью. Достаточно было с моей стороны малейшей провинности, даже намека на провинность, как он запирал меня на целый день в комнату, отбирал все книги, кроме русской грамматики и задачника Евтушевского, и заставлял часами сидеть на стуле перед письменным столом без права приблизиться к окну, в котором я видел только высокий, раскачивавшийся на ветру фонарь и вершины далеких сине-зеленых елок соседнего сада. Ленивое поскрипыванье фонаря стало непременным звуком, обязательным и надоедливым мотивом, сопровождавшим мои многочасовые сидения. Если у меня появлялась надобность пойти в уборную, я должен был заранее, по крайней мере за полчаса, предупредить его об этом: так он думал воспитать во мне волю. Мне было семь лет, и пытка бездействием, которой Михаил Семенович подвергал меня, довела меня до того, что один звук его холодного и спокойного голоса вызывал во мне истерическую, мелкую дрожь.
Однажды он придумал новое испытание для меня, быть может, еще худшее, чем сидение на стуле: спокойно, заложив руки за спину, он расхаживал по комнате, изредка, движением головы, смахивая с глаз непослушную прядь волос, взглядывая своими черными глазами на меня, забившегося в угол кровати, и допытывался — почему, собственно, я не люблю его. Я трусливо лгал, уверяя, что я его люблю, что он самый добрый и замечательный человек в мире, что мне с ним всегда интересно и приятно. Вероятно, в моем робком голосе не было искренности, так как он продолжал допытываться — спокойно, размеренно и холодно. Я не помню, чем кончилась эта сцена, но никогда не забуду того стыда за мою вымученную ложь, который охватил меня, когда я остался наедине с самим собою.
Вначале, когда ужас перед Михаилом Семеновичем еще не вполне поработил меня, я однажды сделал попытку бегства. Проснувшись ночью и видя, что в комнате никого нет, я вылез из кровати и, подобрав, как дама шлейф, мою ночную рубашку, пересек гимнастическую и побежал вниз. В столовой никого не было. Тускло горела большая белая лампа, на столе стояли еще не убранные после позднего ужина грязные тарелки, серое пятно расползлось возле опрокинутого стакана с водой. Издалека доносились приглушенные темнотой голоса — в кухне прислуги не поладили между собой. Никем не замеченный, я пробрался в детскую, где под потолком горел зеленый ночник, и залез под кровать, на которой еще недавно спала Дочка. Под кроватью было тесно, неуютно и темно. Я лег на спину, заложив руки под голову, и постарался заснуть, но на твердых досках быстро затекали и немели руки, ноги, все тело, делаясь чужим и неповоротливым. Меня вскоре хватились, но, вероятно, не сразу сумели бы найти, если б я не начал, наглотавшись пыли, неудержимо чихать. Ни уговоры няньки Паши, ни медленный и злой голос Михаила Семеновича, даже ласковый шепот бабушки не могли заставить меня вылезти из-под кровати. Пришлось вызвать отца. Нянька Паша держала в руках лампу, бросавшую муаровый круг на пол, и в этом круге я видел черные, сползавшие гармоникой, с мешками на коленях брюки отца, синие, бесконечно длинные, с проглаженной складкой, штаны Михаила Семеновича и белый передник няньки. Отец говорил со мной очень мягко — я не слышал в его голосе привычной властности и непререкаемости. Вероятно, если бы он стал приказывать, меня пришлось бы вытаскивать из-под кровати силой. Переговоры длились довольно долго, и только после того, как исчезли синие брюки Михаила Семеновича и белый передник няньки, и когда я остался один на один с отцом, я решился вылезти из-под кровати;
6
Михаил Семенович, по счастью, не тратил слишком много времени на меня. В те дни, когда я не бывал наказан и не сиживал в полном одиночестве, прикованный страхом к стулу, в моей комнате я пользовался почти полной свободой. По окончании уроков моей главной заботою, единственным стремлением было не попадаться на глаза Михаилу Семеновичу. Когда вдалеке я замечал его высокую и стройную фигуру, вся моя изобретательность уходила на то, чтобы незаметно раствориться в воздухе. Еще не зная всех приемов краснокожих индейцев, я самостоятельно научился сливаться с окружавшей меня обстановкой, прозрачной тенью выскальзывал из комнаты или на животе, змеею, уползал под прикрытие высокой травы. Одним из самых безопасных мест была бабушкина комната. В полутемном углу, заставленном старинными иконами, горела синяя лампадка, голубые блики мерцали на тяжелых серебряных окладах, стены были покрыты старыми фотографическими карточками, на столе, заваленном обрезками материй и выкройками, стояла древняя зингеровская швейная машинка с отбитой фарфоровой ручкой, в комнате пахло особенным бабушкиным запахом — смесью лекарств, табака и одеколона. Но мне надоедало подолгу оставаться здесь, где было слишком уютно и тихо для моих семи лет. И вот тогда я открыл новый, замечательный и единственный, только мне доступный, романтический мир. Это были необъятные чердаки нашего дома.
Они казались бесконечными. Неровный пол следовал неожиданным изгибам потолков, появлялись выступы, провалы, подъемы, тупые и острые углы, образованные скатами крыш, длинные, в несколько саженей узкие щели, где приходилось проползать на животе, слуховые окна, через которые проникали косые лучи солнца, сломанные переплеты деревянных стропил, — все было ирреально и загадочно. Путаницу прямых, изогнутых и сломанных линий еще увеличивали железные длинные брусья, скреплявшие стены чердаков, — эти брусья были поставлены уже после окончания постройки, когда дом под многотонной тяжестью черепичной крыши начал оседать и готов был сложиться как кузнечный мех. В недоступных углах между досок и бревен, где темнота казалась еще интенсивнее из-за узких просветов, поселились дикие голуби. Непрерывное воркованье наполняло чердаки фантастической музыкой. Спертый и пыльный воздух был наполнен ею, все колебалось — и стены, и пол, и пятна темноты, как будто звуки рождались сами собою, неуловимые, призрачные, пронзающие все на своем пути. Эта музыка охватывала меня, успокаивала и погружала в странное состояние полуяви, когда мозг начинает работать бесконтрольно и в ясных образах встают перед глазами мгновенные, полузабытые впечатления дня.