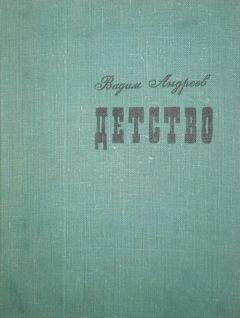После подобных представлений па несколько дней отец исчезал из нашего детского поля зрения, и мы по настороженному лицу бабушки узнавали, что отец болен и что мы должны как можно меньше шуметь.
Изредка летом устраивались пикники. Как и все, что предпринимал отец, были грандиозны и наши поездки в Лиственницу — мачтовый лес, посаженный, по преданию, Петром Первым. Сборы были похожи на отправление экспедиции в неисследованные страны — телеги грузились самоварами, кульками, посудой, всевозможной едой, мешками со всякой всячиной, назначение которой было темно и непонятно. Сверху сажали нас, детей, — Нину, меня, двоюродных братьев сестер, и мы длинным караваном, цыганским шумны! табором ехали в лес, где на берегу реки, около веселых и шумных порогов нас понемногу разгружали. Отец уходил с нами дальше, вдоль берега и, выбрав между камнями тихую заводь, купал нас в холодной, темной воде. Он спрыгивал к нам в реку, и через его широкую загорелую спину начинали переливаться, сверкая на солнце, струи воды. Схватив кого-нибудь из нас за ногу, топил, а мы, даже соединенными усилиями десяти детских рук, не могли его сдвинуть с места. И чем больше было визга и шума, тем довольнее был отец. Иногда вместо телег весь скарб грузился на лодки — лодок было множество: «Кутуккари», «Тузик большой» и «Тузик маленький», «Хамоидол», «Дыр-Дыр», «Шурум-Бурум» (последнее название было дано отцом после того, как дядя Андрей предложил окрестить лодку «Буруном»), моторная лодка «Савва», — и подымались вверх по Черной речке верст за восемь, пока «Савва», сидевший глубже других лодок, не напарывался на корягу и не садился на мель. Тогда начиналась, собственно говоря, самая интересная часть путешествия: женщин ссаживали на берег, монтер Николай, ставший с годами большим и верным другом нашего дома, раздевался за кустом, потом с размаху бултыхался в холодную воду, нырял под корму моторной лодки и, пробыв с добрую минуту под водой, наконец выныривал, откидывая с лица намокшие от воды длинные волосы, и сообщал отцу о том, что винт цел.
— Только вот так, самую капельку, покривился.
На берег завозили толстенный канат — такие канаты я видел потом только на океанских пароходах, — и все соединенными усилиями, начинали стаскивать с коряги «Савву». Николай плавал вокруг, фыркая и поднимая фонтаны брызг, ныряя каждую минуту, и, захлебываясь, веселым голосом покрикивал на нас:
— Еще немного, еще немного, сейчас слезет!
Вечером, в тех случаях, когда «чуть-чуть» покривившийся винт отказывался работать, «Савву» приходилось тащить домой на буксире. Впрочем, от этого веселье не уменьшалось, и на добрых полверсты между обрывистыми, поросшими лесом, высокими берегами узкой речонки растягивался наш поющий и шумящий караван.
Зимой строилась длинная ледяная гора с трамплином, налаженным так ловко, что через неделю оказались разбитыми все сани, сделанные по специальному рисунку отца. Их желтые деревянные скелеты торчали из-под снега, похожие на остовы разбитых бурею лодок, выброшенных на берег. Но слететь с этой горы и взвиться в воздух, подскочив на трамплине, — это было действительно настоящее удовольствие. На лыжах ходили все — и гости, и дети, и кто умел, и кто в глаза не видел лыж, — увлечения отца не допускали противоречий. Помню, как однажды дядя Павел наперекор всем законам равновесия, размахивая руками, с пенсне, летевшим за ним на длинной шелковой ленточке, ухитрился, конечно случайно, съехать на одной ноге, задрав другую высоко в воздух, с извилистой, покрытой ухабами снежной горы. Когда он наконец свалился и в разные стороны разлетелись шапка, рукавицы, валенки и лыжи, а сам он с головою зарылся в рыхлый снег, отец заставил его пролежать в этом положении еще несколько лишних минут, пока наставлял фотографический аппарат. Впоследствии, этот снимок получил название «взрыв министра».
Но все-таки, сквозь весь этот шум и гам, сквозь смех, сквозь веселье, казавшееся безграничным, прорывалось ощущение огромного провала и беспощадного мрака. Так в комнате, освещенной десятками ламп, присутствует окно с неплотно закрытыми шторами и за окном бесконечное ночное ничто,
5
Наш детский мир был совершенно обособлен. С взрослыми мы почти не встречались, лишь изредка из небытия выныривали тетки — Римма, сестра отца, Анна Ивановна, жена дяди Павла, тетя Наташа, бывшая замужем за дядей Всеволодом. Тетя Наташа появлялась реже других — она жила со своим мужем в Москве. Но детские комнаты всегда были переполнены няньками, боннами, прислугой и детьми. У нас подолгу живали сыновья тети Риммы, мои сверстники, Лев и Леонид, приезжала Лариса, дочь Анны Ивановны, гостил Игорь, сын тети Наташи. Игорь, самый младший из племянников отца, был похож на него — вероятно, поэтому он был любимцем бабушки. Оп умер совсем маленьким от воспаления легких, проболев всего несколько дней.
Из теток я любил, пожалуй, больше других Римму. Однажды я поймал в разговоре взрослых слова «ветреная Риммочка», и с тех пор эта ветреность, в моем детском сознании понятая буквально, явилась как бы символом тети Риммы: мне казалось, что она окружена вихрями, — по воздуху летели ее золотые волосы, развевались широкие юбки, взлетали длинные руки, украшенные кольцами и браслетами. Она была очень красива. Когда она входила в детскую, вместе с нею врывались молодость, шум и веселье. К Анне Ивановне, чересчур рассудительной и невеселой женщине, меня не слишком тянуло. Впрочем, по-настоящему я был привязан только к бабушке и Дочке; всех других, попадавших в орбиту моего детского мира, я скорее чуждался.
Как я уже сказал, паше детское существование было совсем обособленным. Мы обедали отдельно — зимою в детских, летом на террасе, вместе со взрослыми, но за соседним, маленьким столом. Особенно веселым и радостным бывало для меня то время, когда у нас гостили сыновья тети Риммы. Вырвавшись из-под надзора нянек, мы убегали на задний двор. Здесь, в этом мире, совершенно непонятном для взрослых — они относились к нему презрительно и небрежно, — мы открывали целые горы сокровищ: из пустых ящиков мы строили многоэтажные дома, в большой глиняной яме, наполнявшейся дождевою водой, пускали корабли и даже однажды, смастерив целый плот с мачтой и парусами, тонули в разбушевавшемся океане, в котором воды было меньше, чем по колено. Зимою мы ходили на лыжах и годам к восьми свободно спускались с тех гор, откуда не всегда решались съезжать взрослые. На реке был устроен каток, часами я кружился на черном льду, подражая голландскому шагу отца — он хорошо ездил па коньках.
Когда мне исполнилось шесть лет, я прочел самостоятельно мою первую книгу — «Приключения барона Мюнхгаузена», переживая буквально все его авантюры: за волосы я пытался оторвать себя от земли, мечтал добраться до луны, ярче самого Мюнхгаузена воссоздавал в моем воображении фантастические события жизни хвастливого барона. На некоторое время я даже разошелся с моими сверстниками — новый, призрачный мир книг открылся для меня.