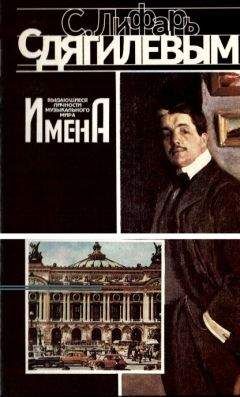В таком настроении прихожу в холл отеля; Сергей Павлович встречает меня очень любезно, заказывает чай на двоих.
— Ну, рассказывайте, что же вы мне хотели сказать?
Дягилев мило, добродушно улыбается. Видно, что он в прекрасном расположении духа.
Преодолев свою робость и стараясь не глядеть на Дягилева, чтобы не потерять своего мужества и дара речи, я начинаю бессвязно и застенчиво-смущенно:
— Я... Сергей Павлович... мне хотелось... Я хотел поблагодарить вас за сезон и попрощаться с вами... Я хочу... Я должен ехать на будущей неделе...
— Куда же вы хотите ехать, где хотите провести ваш двухмесячный отпуск? Вы знаете, что 1 сентября вся труппа должна быть на месте, и я не люблю, когда танцовщики опаздывают. Куда же вы собираетесь ехать? А я хотел вам предложить... Впрочем, рассказывайте сперва ваши планы...
Как сказать Дягилеву о моем решении?
— Я, Сергей Павлович, уезжаю не на лето, не на два месяца, а совсем... Я решил уйти из труппы.
— Что такое вы говорите, что такое? — Дягилев мгновенно багровеет, порывисто вскакивает, и тут происходит невероятнейшая сцена: он опрокидывает столик — всё со звоном и треском летит на пол — и начинает, задыхаясь, кричать (присутствовавшие в холле французы, англичане, американцы застыли):
— Что, что такое вы осмелились сказать, неблагодарный щенок? Понимаете ли вы сами, что это неблагодарность, подлость! Я вас выписал из России, я вас содержал два года, учил вас, наглого мальчишку, для того чтобы теперь, когда я на вас рассчитываю, услышать от вас, что вы уходите из моего балета. Вам девятнадцать лет, вы только-только начинаете жить, лучше и придумать нельзя, хороши ваши первые самостоятельные шаги. Наглость, безобразие! Я уверен, что вы не сами придумали уйти от меня, а вас подговорили, подбили! Говорите, кто из этих девчонок, с которыми вы вечно возитесь, с которыми я вас постоянно вижу, развращает вас и учит платить неблагодарностью за то, что вам так помогли, как я вам? Я говорил вам, что я рассчитываю на вас в дальнейшем как на первого танцора, а вы вообразили, что вы уже настоящий первоклассный танцор. Ошибаетесь — сейчас вы ничто, и вас должны прогнать из любой балетной труппы. Я говорил о вас как о будущем танцоре, и это будущее в моих руках: захочу — вы будете первым танцором, захочу — вы будете ничем... Что ж, если хотите уходить — уходите, проваливайте, мне не нужны такие неблагодарные животные... К черту!
Я не перебивал Сергея Павловича, ничего не говорил, только смотрел на него с жалостью и с нежностью, и, очевидно, под влиянием моего взгляда и того, что он выговорился и выкричался, Дягилев начал успокаиваться и продолжал уже более мягко:
- Я вам наговорил кучу дерзостей — забудьте об этом и поговорим спокойнее. Ведь вы же должны понимать, Лифарь, что это нехорошо, что это похоже на шантаж и что эти девчонки (я и на Анне Павловой видел вас с какими-то девчонками, и мне очень жаль, что вы с ними путаетесь) оказывают вам очень плохую услугу. Я вас ценю, Лифарь, и ни в какую другую труппу вас не пущу. Чего вы хотите? Скажите мне прямо и просто. Вам не хватает жалованья, вы хотите прибавки? Хорошо, я вам дам прибавку.
Дурная выходка Дягилева и жалость к нему дали мне возможность вполне овладеть собой, и я совершенно спокойно сказал:
- Нет, Сергей Павлович, я не собираюсь переходить ни в какую труппу, и никакой прибавки мне не нужно. И пришёл к вам не для того, чтобы просить вас, а чтобы поблагодарить вас за всё, что вы для меня сделали, и
попрощаться с вами: я ухожу в монастырь.
Тут происходит новая душераздирающая сцена: Сергей Павлович упал тяжелой головой на стол и заплакал от волнения и от какого-то умиления:
- Так вот где Россия, настоящая Россия, Россия богоискателей, Алёш Карамазовых. Ведь ты же Алёша Карамазов, бедный мой мальчик! Бедные вы дети, потерявшие свою родину и стремящиеся к ней, стремящиеся к тому, чем веками жили ваши деды и прадеды!
Сергей Павлович встал и обнял меня — новое удивлённое движение в салоне: «странные эти русские: то ломают столы, бьют чашки и кричат, то ни с того ни с сего на людях начинают целоваться!»
— За этот порыв, безумный и наивный, я тебя еще больше люблю, Алёша... Но в чем дело? Почему вы хотите уйти в монастырь, почему хотите закопать в землю свой талант, похоронить себя, зачем вам нужно это самоубийство? Ведь это же безумие, это невозможная вещь, я не допущу этого. Что с вами происходит? Какие внутренние переживания толкают вас к отказу от блестящей карьеры, которая открывается перед вами?
Я, как умею, передаю свое душевное состояние, свою неудовлетворенность жизнью, а главное — как раз страх перед этой блестящей карьерой; говорю, что чувствую себя недостаточно сильным и боюсь, что не смогу оправдать его доверия, его надежд, которые он возлагает на меня.
— Вы недавно говорили, что рассчитываете на меня как на первого танцовщика, а сегодня сказали, что я ничто, и я боюсь, что вы были правы сегодня, а не тогда; лучше мне теперь же отказаться от танца, чем оказаться ничтожеством,— всё равно я не переживу этой неудачи.
— Забудьте о том, что я со злобы говорил сегодня. Я верю в вас и вижу, слышите, вижу вас танцующим со Спесивцевой, которая будет вашей партнёршей. Я не могу ошибаться в вас и не ошибаюсь, недаром я заинтересовался вами с самого начала и всё время следил за вами. В вас есть настоящий талант, и вы должны развивать его, должны работать и преодолевать все трудности, а не трусить перед ними и позорно дезертировать. Ничего даром не даётся, но талантливый и сильный человек не смеет малодушествовать, не смеет складывать рук и впадать в пустоту. Вы должны работать, а я, со своей стороны, сделаю всё как есть, что только в моих силах, я облегчу вам работу, я дам вам отпуск, чтобы вы могли набраться сил для работы и поправить свое здоровье,— ведь вы совсем общипанный цыплёнок! Выбирайте любое место на море, ни о чем не беспокойтесь, все заботы о вас я беру на себя... Я всё сделаю для вас, и сделаю это не для вас, а для себя: вы один существуете для меня в балете, и, если бы вас не было, я бы уже закрыл Балет и отошёл от него — сейчас только вы привязываете меня к этому делу; я хочу посмотреть, что из вас выйдет, я хочу создать из вас мирового танцора, второго Нижинского.
Слова Сергея Павловича взволновали меня, я не подозревал, что он до такой степени интересуется мною и так преувеличивает мои способности. Я знал, что не заслуживаю этого преувеличенного мнения, но слова его покорили меня, я потерял способность сопротивления, не мог ничего возражать и отдал себя в его сильные и ласковые руки.
- Если вы думаете, Сергей Павлович, что из меня может что-нибудь выйти, пошлите меня в Италию к Чеккетти; я хочу сделать эту попытку, не выйдет — ну что же делать? — придётся отказаться от балета.