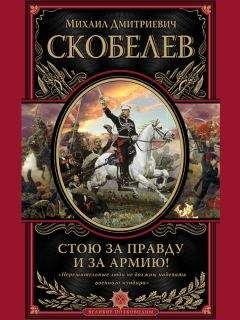И тут почему-то Никонов, секретарь по селу, с которым горожан связывали разве что поездки на уборку картошки, заговорил о «Московской правде». На его взгляд, это очень вредная газета — она заражает народ пессимизмом. В президиуме поднялся шум. Сильнее всех распалился Лигачев. «Это не газета, это антипартийное безобразие, — нажимал он на голос. — Такие надо закрывать к чертовой матери». Конкретизировал причины разноса секретарь ЦК Александр Яковлев. «Московская правда», говорил он, как крыса, подгрызает коммунистические основы, и — какое кощунство! — замахивается даже на Ленина. Из президиума волной плеснулся выдох негодования. Это потом они, в безопасные времена, стали выдавать себя за давних борцов с тоталитаризмом. За несколько дней до совещания мы опубликовали статью Шода Муладжанова «Чья карета у подъезда?» В ней — о кортежах лимузинов с сановными чиновниками, которые носятся по улицам, подвергая опасности всех остальных. В статье назывались и адреса, где у подъездов спецшкол и спецучилищ всегда столпотворение государственных машин — привозят и отвозят отпрысков крупных вельмож. И когда очередь в президиуме бросить свой камень дошла до председателя КГБ СССР Чебрикова, он голосом железного Феликса сказал, что как раз эти публикации привели к вчерашнему опасному инциденту. Двигался кортеж секретаря ЦК, а из кустов его забросали камнями. «Полторанин подстрекает народ на бузу, — заключил председатель КГБ. — За это надо под суд отдавать!»
Я вжал голову в плечи — неужели сейчас зайдут с наручниками? И взглянул на Горбачева. Он смотрел на меня. В его глазах искрилась усмешка, а лицо выражало удовлетворение. Два года спустя на первом съезде народных депутатов СССР с таким выражением лица он смотрел в зал из президиума, а с трибуны катились потоки речей — одна смелее другой. В числе депутатов-москвичей я сидел в первом ряду, и наши взгляды встретились. Горбачев что-то быстро набросал на листе бумаги, поманил меня рукой и протянул записку. «Какой разброс мнений! Какой накал плюрализма!» — было в этой записке. Михаил Сергеевич очень любил, когда вокруг стояла пыль столбом от споров, но только не задевающих лично его. Он купался в удовольствии от столкновений одних групп с другими. И от возможности в любой момент непререкаемым словом рассадить всех сверчков по своим шесткам. Но сейчас, в этом зале, столкновений не было, если не брать во внимание чью-то цель бить по стороннику Ельцина, а рикошетом по самому Ельцину. Была обычная порка несговорчивого человека, шел тяжелый каток по улице с односторонним движением. Политбюро хотело и дальше превращать всю страну в эту улицу и давить катком тех, кто отважился двигаться не по правилам верховных властителей. Перестройка не тронется с места, пока не спустишь партийных богов с их защищенного от законов политического неба.
Члены Политбюро, видимо, рассчитывали на оргвыводы. Но Горбачев завершил заседание неожиданно примирительным тоном.
— Ладно, — сказал он, — люди здесь все взрослые. Понимают, на что идут. Пусть делают выводы из нашего разговора.
Выходили в «предбанник» молча. В одних глазах коллег я видел злорадство: «Доигрался, парень!», — в других сочувствие. И тогда, и сейчас редактора — народ очень разный. У большинства из них в генах сидит священный трепет перед начальством, они готовы поклоняться даже пеньку, если его водрузили по недоразумению на божницу. Они будут гнобить несогласную мысль, прикрывая свое ничтожество демагогией о высоком долге перед страной. И гораздо реже — перед тобой люди с внутренним стержнем, которые учитывают объективную ситуацию, но при этом стараются соответствовать своему профессиональному предназначению.
Вернувшись в редакцию, я долго сидел в одиночестве и отходил от высочайших оплеух. Ох и паскудная у меня жизнь — ни дня, ни ночи покоя. До моего прихода в «Мосправду» по утвержденному свыше графику номера газеты сдавали в печать ранним вечером. После шести в столице происходили значительные события, творились сенсации, а завтрашний номер в типографии уже был отпечатан и приготовлен к доставке. Новости москвичи узнавали по телевидению — зачем им газета, которая дает материал с опозданием на сутки. Это, естественно, сказывалось на тираже. Я упросил Ельцина повлиять на управделами ЦК, чтобы с нас не брали штрафы за сдачу в типографию номеров в более поздние сроки. Он договорился. И мне приходилось работать в редакции до двух или даже до четырех часов утра, а в десять утра — планерка. Но до нее нужно еще успеть прочитать подготовленные отделами материалы. Да к тому же постоянные дерганья по инстанциям и споры с опровергателями.
5
У меня от авитаминоза уже проступили пятна на руках. Так я сидел, вспоминая злые лица членов Политбюро, и фантазировал: очутиться бы на прежней работе, да отправиться в командировку, например, к рыбакам Камчатки, где лососи пляшут в струях водопадов, пробиваясь вверх по течению. Или поехать опять к воркутинским шахтерам и там после спуска в забой, соскоблить с себя в бане угольную пыль, выпить залпом ковш холодного кваса, да поговорить с горняками по душам. Только ведь снова начнут шахтеры мучить вопросами: почему они в богатой стране сидят даже без жратвы. И неужели я, мужик из народа, не вижу, сколько развелось вокруг паразитов. Вижу, конечно. (Догадывались бы они, сколько станет паразитов лет через 10–15!). И знаю давно, что главные паразиты сидят в Кремле, а они, как тарантулы, рождают скопище паразитов поменьше. И пока маток-тарантулов не раздавишь, все будет изрыто норами вседозволенности. Нет, не до созерцания мне лососевых карнавалов, надо не обращать внимания на синяки и делать свое маленькое дело. Капля за каплей, капля за каплей — и даже от чиха ягненка поползет по валуну широкая трещина.
Правда, выпускать интересные номера становилось все сложнее. Почти ежедневно мы сцеплялись с цензором из Главлита, приставленным к «Мосправде». Он взял манеру третировать нас ультиматумами далеко за полночь. Днем, как хорек, отлеживался где-то в дупле, а по темноте принимался за наш курятник: или надо кастрировать материалы, или цензор вышвырнет их из номера. Я своими злыми ночными звонками просто достал его начальника, главного цербера страны Болдырева. Спросонок он долго не понимал о чем речь, просил передать трубку стоящему рядом со мной цензору. Иногда дозволял пропустить статьи в прежнем виде, а чаще нам приходилось кроить их абзацами (времени для переверстки номера не оставалось), выплескивая заложенный смысл.
Зазвонил телефон — в трубке был усталый голос первого секретаря.
— Вернулись? — с нотками равнодушия спросил он. — Почему не докладываете?