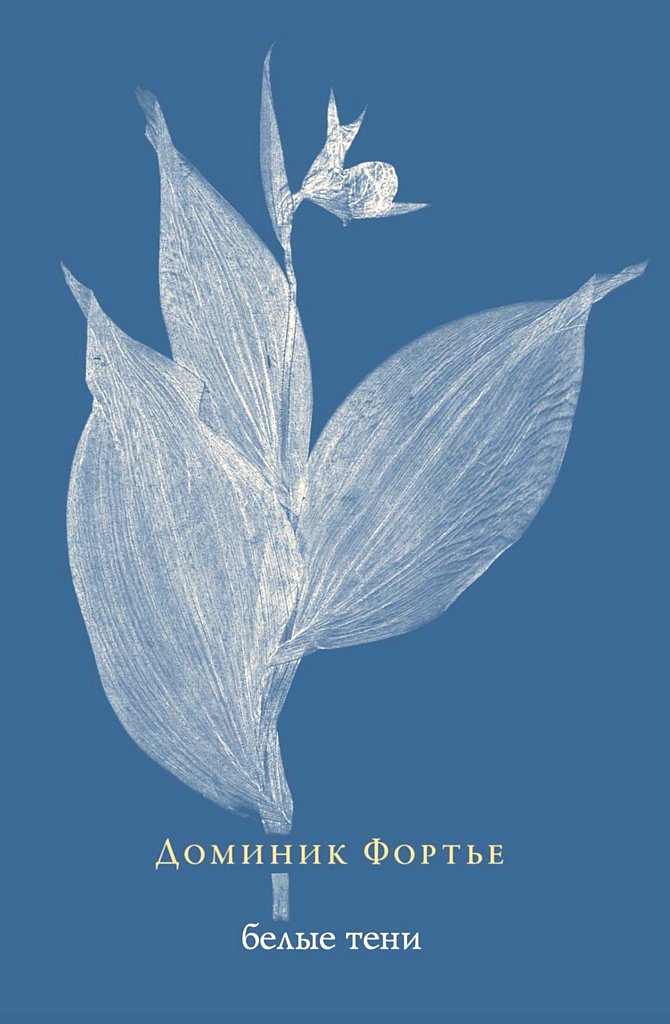далекий этот край [5].
Лавиния надела свое самое красивое платье, шелковое, переливчатое, обшитое тонкими кружевами по воротнику и рукавам. Оно тесновато в талии, но это ерунда. Сьюзен, Остин, Эдвард и Марта тоже принарядились, как и их соседка, миссис Хансель, которую пригласили потому, что она недавно овдовела и ее не хотелось оставлять в одиночестве. В гостиной Эвергринса стоит елка, украшенная гирляндами воздушной кукурузы и ломтиками сушеных апельсинов, — какое расточительство, думает Лавиния, а ведь можно было сделать мармелад.
Они уже распаковали подарки, издавая положенные по этому случаю восторженные возгласы, вынимая из пакета кто гравюру, кто книгу, кто пару вышитых платков. Но душа не на месте. Сьюзен вымученно улыбается детям, которые у нее остались, хотя они уже не дети. Рождество умерло вместе с Гилбертом.
Они садятся за стол — так положено.
— Устрицы великолепные, — говорит миссис Хансель.
Лавиния считает своим долгом поддержать ее и проглатывает три штуки подряд. В бокалах согревается шампанское, каждый что-то ковыряет в своей тарелке, а между тем индюшка получилась удачной, как жаль, что она умерла напрасно. Поджигают пудинг, он гаснет, дымя и распространяя запах сала. Около десяти часов Остин объявляет, что ему нужно подышать свежим воздухом. Сьюзен провожает его взглядом, но не произносит ни слова. Он выходит, натянув пальто и обмотав шею шарфом.
— Может, поиграем в шарады? — предлагает Марта, и они, старательно изображая веселье, по очереди показывают известных литературных героев и названия книг.
Когда Лавиния незадолго до полуночи прощается и уходит, начинает падать мягкий снег. Она поднимает лицо к небу, глубоко вдыхает холодный воздух, который обжигает ей легкие, и быстро идет по направлению к дому. Вдалеке, за оградой она замечает две тени: Остина и Мейбел, склонившихся друг к другу подобно двум статуям. Она спрашивает себя, что сейчас делают Дэвид и Милисента, оставшиеся одни в рождественскую ночь. А еще каждый час каждого дня она спрашивает себя, что сейчас делает Эмили.
Когда Лавиния видит синичку, она думает о живой сестре. Когда в ветках сикомора она замечает красный отблеск птицы-кардинала, она видит живую сестру. Глядя, как суетятся поползни, наблюдая за скворцом на крыше, слыша, как воркуют голуби, каркают вороны, любуясь, как переливается разными цветами скворец, Лавиния вспоминает Эмили. Все пернатые создания напоминают ей о сестре — кроме, наверное, кур.
~
Между Рождеством и Новым годом сразу пополудни косые солнечные лучи пронзают кроны деревьев во дворе, превращая в причудливый витраж немногие оставшиеся на ветках листья. Лавиния думает, что стихи ее умершей сестры тоже не что иное, как пронзенные светом листья.
Стоя в саду среди плетей кабачков и тыкв, почти занесенных снегом, она поднимает голову, стараясь, не щуря глаз, разглядеть в лазури белое солнце. Свет ослепляет ее, причиняя неясную боль. Он просверливает отверстие в ее глазу, проникая до самых глубин черепной коробки. По щекам текут слезы, а она даже не смаргивает. Перед глазами начинают танцевать черные точки, их все больше и больше, они увеличиваются в размерах. Они перекрывают все поле зрения, подобно тому как чернильные кляксы, растекаясь, сливаются в одно большое пятно. На какое-то мгновение ей кажется, что она ослепла, — а это значит, что она начнет наконец видеть. Когда она закрывает глаза, эта другая темнота представляется ей свежей водой. Если избыток света ослепляет, что происходит, когда страдаешь от избытка любви?
Она возвращается, растягивается на кровати, и кошки тут же ложатся подле нее, свернувшись клубком. Они подходят по одной, грациозной походкой, заваливаются набок и начинают мурлыкать в унисон: Джинжер в подколенных впадинах, Шоколадка, облюбовавшая изгиб плеча, и Перчинка, привалившаяся к пояснице.
Ее собственное тело заканчивается там, где начинается их нежная шерстка. Если бы все они встали одновременно, она бы рассыпалась, распалась на осколки и уже не смогла бы подняться. Она бы так и осталась там, груда плоти с вывихнутыми руками и ногами, кукла-марионетка в коробке, которая ждет, когда ее наконец соберут. В самые холодные зимние дни именно кошачье тепло делает из нее единое целое.
~
Время от времени Лавиния достает гербарий Эмили из большой картонной папки и начинает его перелистывать, словно настоящую книгу, задерживаясь всегда на одних и тех же страницах, чтобы полюбоваться хрупкой гармонией композиции, тонкими стебельками, окраской, которая уже начинает блекнуть, между тем как абрис цветка как будто проступает четче. Больше всего она очарована белыми цветами. Сестра обладала замечательным даром: в застывшей вечности найти место живому. Когда-то Лавиния завидовала этому дару, которым восхищались все, кого Эмили одаривала своими стихами, письмами или остроумными ответами, быстрыми, словно стрелы.
Закрыв и убрав гербарий, она спускается в кухню, по пути берет из холодной комнаты банку, в которой вот уже два десятка лет томится закваска. Добавляет немного воды, ложку муки, перемешивает и вновь выносит банку на холод. Позже она вернется, чтобы приготовить хлеб на завтра. Она ни на секунду не задумывается об этом чуде, равном или даже превосходящем чудо Эмили: ей тоже удается создать живое из мертвых вещей.
~
В начале января, захватив стихи, Лавиния отправляется к тому, кого Эмили в письмах называла учителем. Томас Хиггинсон, чуть приподнимаясь, приветствует ее. Писатель, журналист, литературный критик, убежденный борец против рабства, человек во всех смыслах замечательный, к тому же приятной внешности. Его кабинет похож на кабинет отца в доме Эмили: отделанные панелями красного дерева стены, сплошь заставленные книжными шкафами, единственное окно, в котором видно застывшее дерево, словно картина в рамке, монументальный письменный стол, будто извещающий посетителей о величии миссии, которой посвятил себя хозяин.
Именно на него Лавиния решительно ставит принесенный с собой саквояж. Кустистые брови Хиггинсона ползут вверх от изумления. Она между тем развязывает ремни, долго возится с узлами, приподнимает клапан. Внутри вперемешку лежат десятки, сотни листков, обрывков оберточной бумаги, куски конвертов, надписанные хорошо ему знакомым почерком. На мгновение у него перехватывает дыхание.
— Моя сестра оставила много стихов. — Лавиния приступает прямо к делу.
Чтобы вновь начать дышать, ему требуется изрядное усилие, он берет в руки листок, затем еще один, лихорадочно пытается разобрать какие-то слова. Это даже не стихотворение, не совсем стихотворение, какой-то набросок, что-то вроде смутной тени, воспоминания или предвестника стихотворения. На другом листке — одна-единственная стихотворная строка с зачеркнутым посередине словом, а внизу список каких-то терминов, которые вроде бы синонимы, а вроде и нет. После долгих лет знакомства через письма он наконец ощущает, что вошел в комнату Эмили Дикинсон.
— Я бы хотела их напечатать, — продолжает Лавиния.
Он