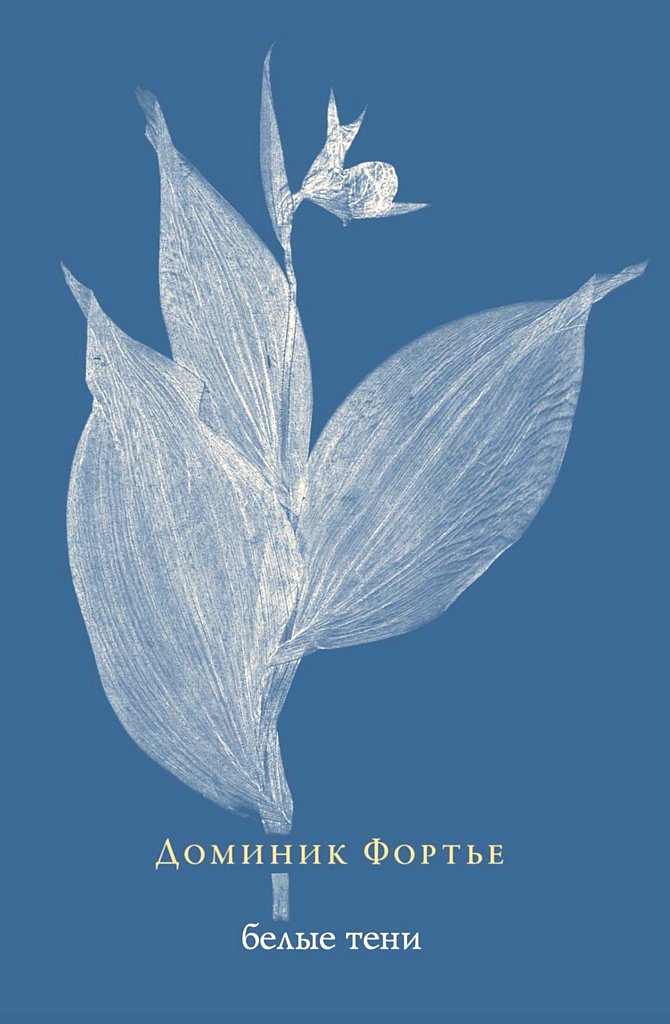в снах к ней приходит сестра. В сущности, в этом нет ничего удивительного. Даже у мертвой Эмили воображения хватает на двоих.
Куда бы она ни шла, призрак Эмили следует за ней, а порой и обгоняет. Ее полупрозрачная, просвечивающая сестра превратилась в самого живого из всех призраков.
Лавиния так и не смогла решиться бросить в огонь гербарий, как велела ей поступить с личными бумагами Эмили. Но переворачивая страницы, на которых покоятся увядшие цветы, она прекрасно понимает, что проникла в тайну мертвой сестры глубже, чем если бы прочла ее дневник. Ей кажется, что она вскрыла живот, и там, где у прочих смертных находятся внутренние органы, сердце, легкие, печень, она обнаружила красный пион.
~
Утром, при пробуждении, Лавиния осознает, что у нее давно нет месячных. Она пытается вспомнить, когда они были в последний раз. В мае? Или в июне? Когда она убрала свое тряпье? Она не знает. Этот клубок плоти в ее чреве, что каждый месяц формировался, разрушался и потом истекал у нее между ног, этот теплый поток иссяк. У нее нет и больше не будет детей. Она произносит эти слова вслух: «У меня нет и больше не будет детей», силясь осознать эту фразу, в которой сошлись настоящее и будущее, — возможно, столкнувшись, они уничтожают друг друга?
Она хватает Джинжер, что трется возле ее ног, подносит к лицу и утыкается носом в мягкую шерстку. О чем обычно сожалеют люди? Если Лавиния о чем-то и сожалеет, то лишь о том, что у нее мало кошек.
Сьюзен давно питает недоверие к книгам, словно предчувствуя: если бы люди не умирали, то и не писали бы. Книги — знак смерти, как маяк, предупреждающий о рифе. И в том и в другом случае это свет, без которого хотелось бы обойтись. На бледных страницах томов, обтянутых шкурой животных, мертвые говорят с живыми — и с другими мертвыми. Книги — это призраки. Письма стоят не многим больше, ведь они знаменуют отсутствие тех, кого любишь. Даже самые прекрасные, самые нежные и самые волнующие беспрестанно нашептывают: меня здесь нет.
Письма и стихи Эмили тянут Сьюзен в разные стороны: в сторону света и в сторону тьмы, они заставляют чувствовать тоску по любви, которой больше нет, а возможно, никогда и не было. Ибо по прошествии пятидесяти лет она знает: бесполезно искать идеал в путешествиях, в книгах, в вере, в морфине, в объятиях тех, кого любишь, или в звездном небе, как этот несчастный Дэвид, его можно найти лишь в смерти. Порой по утрам, открывая глаза, она чувствует такую усталость, что ей кажется, будто она сделана из того же дерева, что ее кровать.
Народная мудрость гласит: время лечит и в конце концов скорбь становится не такой острой. Это ложь, думает Сьюзен, ей сказали неправду. Совсем наоборот — каждое утро лишь усугубляет горе, обостряет потерю, дыра в груди становится все глубже, и она в любой момент может упасть в эту пропасть. Она носит траур не только по Эмили и Гилберту. Она оплакивает свою молодость, свою наполовину истекшую жизнь, отчасти разочаровавшую ее, сокрушается о приближающейся зиме, а ведь она только-только начала привыкать к осени.
Съежившаяся, свернувшаяся клубком в кресле, она достигла того возраста, когда человек начинает уменьшаться. Она смотрит на дверную раму, где каждое первое января они с Остином делали зарубки, отмечая рост детей: вот Эдвард, который давно ее перерос, Марта, уже почти женщина, Гилберт, чей рост навсегда остановился на уровне ее сердца. Сьюзен уверена, что если бы она тогда догадалась измерять и свой рост, сейчас зарубки пошли бы вниз, вычитая то, чего она лишилась.
~
Проходят дни, недели. Сьюзен ничего не делает, Лавиния теряет терпение, приходит к ней, убеждается, что дело не двигается, уходит каждый раз разочарованная и слегка раздраженная.
Наконец, как-то утром, когда они обе сидят в гостиной Эвергринса, Сьюзен признается:
— У меня не получается.
— Что не получается? — спрашивает Лавиния.
— Ничего.
Она обводит рукой все, что ее окружает: гостиную с роялем, книгами, весь дом, сад, что обступает все это: и ее, и гостиную, и дом, потом город, расстилающийся вокруг, мир за его пределами, — все напрасно, эксцентрические круги пустоты расходятся все дальше и дальше.
Сьюзен знает, что не стоит и пытаться рассказывать Лавинии про бездонную дыру в ее груди, которая забрала все самое дорогое, хрупкое и самое живое. Она по-прежнему встает по утрам, завтракает, иногда даже смеется, но сердце умерло прежде нее самой. Оно покоится под землей на кладбище, а она считает дни, когда сможет с ним воссоединиться. Однако слова сами вылетают у нее изо рта, они падают, словно мелкие камешки:
— Я встаю по утрам, и моя первая мысль о нем, о Гилберте, он следует за мной, или я за ним, целый день, я разговариваю с ним вслух, спрашиваю, что приготовить на обед, нужно ли ему что-нибудь, может, он хочет, чтобы я ему почитала, вечером перед сном я молюсь, чтобы увидеть его во сне.
Голос дрожит. Лавинии хочется обнять невестку, но она знает, что та отодвинется. Боль сделала ее слишком хрупкой для любых прикосновений. Стоит до нее дотронуться, она разлетится на осколки.
Сьюзен отводит взгляд от Лавинии, отвернувшись к окну, продолжает, словно разговаривая сама с собой:
— Наверное, ему сейчас так холодно. Вот уже несколько дней я не могу думать ни о чем другом. Ночью заморозки, по утрам иней, а у него всегда мерзли ноги, перед сном я подкладывала ему в кровать грелку.
Лавиния собирает в охапку стихи Эмили, которым не удалось согреть Сьюзен.
Когда на следующий день она возвращается, чтобы забрать то, что осталось, Сьюзен отказывается ее впускать. Так проходит день, два, неделя. Через закрытую дверь она объясняет, растолковывает, обхаживает, она даже привлекает Остина, чтобы тот попытался убедить Сьюзен отдать оставшиеся рукописи, все напрасно. Сьюзен не хочет терять Эмили во второй раз.
Лавиния задается вопросом, похожи ли стихи на игральные карты и непременно ли нужно собрать всю колоду, чтобы сошелся пасьянс. Стоя перед закрытой дверью на десятый день, она, по зрелом размышлении, решает, что это неважно, пусть карт не хватает: к черту пасьянс, можно просто построить домик.
~
Лавиния достает вязальные спицы, самую тонкую нить, какую только могла найти, шерсть ягненка с длинными шелковистыми волокнами, и принимается за работу. В течение трех дней ее спицы постукивают, как стрелки на часах. Видя, как из