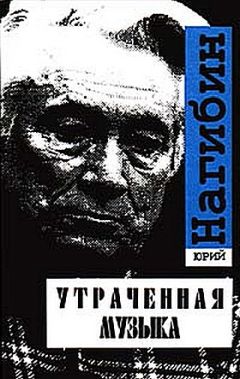Едва ли не главное достоинство «Семи самураев» — глубокое проникновение в крестьянскую психологию. Куросава с любовью и беспощадностью вскрывает потаенную крестьянскую суть, не позволяющую земледельцам понять и принять людей, носящих оружие. Даже общая борьба и пролитая кровь не в силах сблизить эти чуждые миры. Трагедия непонимания. А выигрывают в результате власть имущие, феодалы. Вот такого социального заряда начисто лишена «Великолепная семерка». Но битый идейно и художественно американский фильм все же «унес кассу»…
* * *
К очередному уик-энду мои хозяева разработали для меня новый увлекательный маршрут. Расстояния в пределах Хонсю, хоть это и крупнейший из образующих Японию островов, невелики, а поезда идут со скоростью 150–200 километров в час. Это удивительные поезда, будто насаженные на широкий и толстый рельс, с мягкими откидными, как в самолете, креслами, которые к тому же можно поворачивать по и против движения, с кондиционированным воздухом и прекрасными буфетами. На этот раз мне был предложен классический и однажды уже проделанный мною маршрут: Токио — Киото — Нара. На свой страх я решил прихватить Осаку, вознесенную всемирной выставкой в ранг лучшего из современных городов Японии. Я не случайно оговариваюсь — «современных», ибо нельзя сравнивать Осаку с Нарой или даже с промышленным Киото, боящимися слишком далеко уйти от своего старинного облика.
В Наре, к слову, была сделана интересная попытка создать новый тип японской архитектуры: большие, высокие, технически оснащенные здания несут в своем рисунке, форме крыши, членении этажей что-то от древней пагоды. Уже в первый мой приезд, восемь лет назад, близ вокзала стали два великолепных дома, чудесно вписавшихся в зеленую, нерослую, населенную непугаными оленями старинную Нару. Я был уверен, что градостроители пойдут дальше по этому пути, и с разочарованием обнаружил, что домов в стиле пагоды так и осталось два. Быть может, есть что-то незаконное с точки зрения строгого вкуса в этих прививках старины современной архитектуре? Судить не берусь. А дома снова восхитили меня.
Куросава особенно настаивал на том, чтобы я побывал в «философском саду» Рюандзи в Киото. Я сказал, что был там однажды. Куросава внимательно и как-то грустно посмотрел на меня и ничего не сказал.
Оказывается, можно быть — и не быть, видеть — и не видеть. Своей тогдашней неготовой душой я не высмотрел в философском саду ничего, кроме зеленого прямоугольника травы с несколькими грубыми камнями.
Поэты и путеводители немало витийствовали но поводу философского сада, пытаясь увидеть в серых камнях, торчащих из зеленой низкой травы, то вершины гор над пеленой облаков — образ, навеянный Фудзиямой, чей снежный кратер постоянно скрыт за густыми облаками и зрим легче всего с самолета, то океанское дно на недоступных человеку глубинах. Но ни вознесение в заоблачную высь, ни погружение на дно морское ничего не объясняют в тайне печальных камней на матово-зеленом фоне, освобождающих вмиг полегчавшую и утешившуюся душу от всех бытовых тяжестей, мелких изнурительных забот, возрастной омраченности. Душа становится как звезда — чистой, ясной и задумчивой. И ты постигаешь вдруг, что не надо бояться, есть великий покой, и он не минует тебя, и удел смертного человека не трагичен, а благостен. Присев на деревянную скамью возле зеленого прямоугольника и серых, не отбрасывающих тени камней, ты словно пригубляешь чашу последнего умиротворения.
Какой независимой, дерзкой и глубокой сутью обладал старинный мастер, какой верой в способности человека к постижению чужих снов, если он в свое сумеречное время с непревзойденным лаконизмом создал такой сложный символ. Но об этом думаешь уже позже, покинув философский сад и углубившись в храмовый лес, раскинувшийся по режуще-зеленым пышным мхам, а там ты был избавлен от суеты дум, как и от суеты чувств. Ты жил какой-то первозданной субстанцией, той, что древней и глубже души, проникновенней и мудрей сознания.
И куда ближе стал мне, мой трудный соавтор. Наконец-то сумел я ступить в его тишину, не тишину безучастия, сна, отрешенности от человеческих бурь, а тишину великой сосредоточенности на главном. Я понял, как не нужно внешнее напряжение событий в нашем сценарии, хотя, должен сразу оговориться, никто не тянул Куросаву к «остерну». Если есть «вестерн», то почему бы не назвать «остерном» приключенческий фильм на материале Дальнего Востока?
Но я нашел в других источниках (не в «Дерсу Узала») такой густой и сочный материал о странствиях Арсеньева по Уссурийскому краю, что, естественно, захотел включить его в наш сценарий. Это тем более законно, что сам Дерсу — образ собирательный, вобравший черты трех проводников Арсеньева, хотя был и настоящий гольд Дерсу Узала. Но ведь почему-то Арсеньев пренебрег этими бурными, порой окрашенными кровью, жестокими, разбойными похождениями? Наверное, душе Арсеньева так же претил грубый, вульгарный шум перенапряженной внешней жизни, как и душе Куросавы. Ему хотелось глубже, пристальнее вглядеться в тихую жизнь, хотелось зеленой малости и серых валунов и чтоб в них отражалась вечность.
И когда я с полным внутренним правом и убежденностью, что поступаю правильно, сделал решительный шаг навстречу Куросаве, тот ответил таким же широким шагом навстречу мне. Он как-то разом признал, что мир не только солнечен или хмур, зелен, желт, багрян или бел, но и социален. И этим он приблизился к той исторической правде, которую несет в себе роман Арсеньева и которая чрезвычайно важна и поучительна в наше время тревог и надежд. На агрессии, на силе не могут строиться отношения ни отдельных людей, ни тем более народов и государств.
В начале работы Куросава говорил, что сценарий должен быть как река. Он получил свою реку, но это не гоголевский Днепр, есть в ней пороги и водовороты…
Так выиграли мы наш сценарий.
…Может возникнуть справедливый вопрос: а не рано ли взялся я за перо? Ведь фильма и в помине нет, съемочная камера заработала только в апреле. И сколько еще пройдет времени, пока фильм выйдет на экран, люди посмотрят его и вынесут свое суждение. Тогда, мол, и краснобайствуй о вашей «творческой кухне», а до того помалкивай[1]. Нет, это неверное рассуждение. И дело даже не в том, что Куросава просто не может поставить плохого фильма, а в том, что во всей этой истории есть нечто более важное, чем выход хорошего и даже превосходного фильма, — возвращение к жизни и труду выдающегося художника и человека. Вот что уже состоялось, чего не отнимешь. Мир, сыном которого является выходец из самурайской (военной) среды Акира Куросава, отверг, предал его, обрек на гибель. Мир, которого он почти не знал и на чью помощь не мог рассчитывать, протянул ему свою твердую руку. И давайте порадуемся этому, как радовался сам Куросава, когда после торжественного подписания сценария мы всей гурьбой повалили в Синдико, квартал веселящегося студенчества.