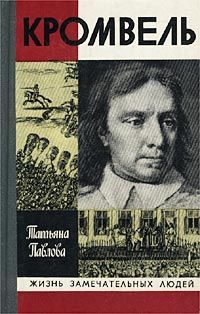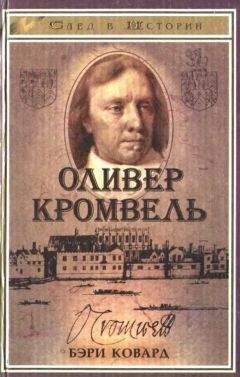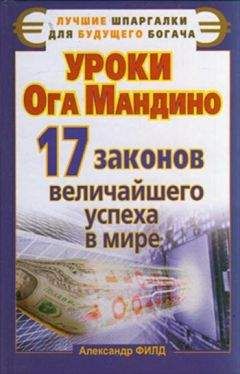Суть, следовательно, не в строгости, а в том, во имя чего она? как и чем поддерживается? повышает ли она человека или понижает его? Всякий согласится, я думаю, что целая пропасть лежит между строгостью Петра Великого и “курляндца” Бирона. Такая же пропасть была между политикой Елизаветы и Карла Стюарта.
Елизавета вдохновляла людей на великое. Карл, Букингем, Лоуд развращали. И что другое могли они делать? К каким струнам человеческого сердца обращались они, чтобы создать себе сторонников? Они подкупали их. Чего они требовали, когда не могли добиться согласия? Лицемерия. И к этому лицемерию ежеминутно и постоянно вынуждался человек, если хотел добиться хотя бы ничтожного спокойствия в своей личной жизни. Он должен был лицемерить даже в кругу своих домашних. Шпионы Лоуда вторгались внутрь его семейного очага и требовали, чтобы человек лгал на своей вечерней молитве, как лгал он, присутствуя с благоговейным видом на торжественной мессе. Карл подкупал или, по меньшей мере, старался всегда подкупить членов оппозиции. Когда это ему не удавалось, он морил их в тюрьме, презирая их, мучая их, мстя им за то, что они – честные люди. До государственной точки зрения он, к несчастью, не возвышался никогда. У него всегда были личные враги, и он изобретал над ними всевозможные издевательства. “Казни стали жестокими и унизительными, дело доходило до того, что прежде чем оторвать уши приговоренному, его били по щекам!..”
Во все время правления Карла человек чувствовал, что с каждым днем он становится меньше и меньше. Елизавета доказала ему, что Англия – великая и могучая страна, которая имеет право не только жить, но и первенствовать. Карл доказывал совершенно противное. При нем Англия шла не в счет. Елизавета всегда преследовала великие цели и осуществляла великие замыслы. Импульс великого передавался каждому подданному, и он с восторгом сознавал это. Карл, Лоуд плодили лицемеров, ханжей, людей, спокойно торговавших своей совестью. Ни о каких великих предприятиях они, конечно же, не думали.
Это печалило и раздражало всех. Те, кто впоследствии восстал против Карла, не могли пожаловаться, что их грабят и доводят до нищеты. Напротив, подданные Карла богатели, и страна без затруднения внесла бы двойные и тройные подати, в сравнении с теми, какие налагались на нее правительством. Не о лишнем шиллинге шел спор, шел спор о человеческом достоинстве. Искренне оскорблялись пуритане, видя вторжение папизма, искренне негодовали Гэмден и люди, подобные ему, видя нарушение закона. У этих людей был Бог, и они были послушны Ему. Как Кромвель, дали они клятву прославлять своего Бога перед лицом неверующих и лжеверующих, хотя бы при этом пришлось пожертвовать самим собой. Но что божественного было в политике, проводившей настойчиво в жизнь народа принципы ханжества и лицемерия?
* * *
Где же был в это время Кромвель и что он делал? Увы! – почти незаметно должны промелькнуть перед нами двенадцать или тринадцать лет его биографии. В летописях человечества зачастую бывает легче найти подробности о жизни и смерти излюбленной собачонки какой-нибудь знатной дамы, чем о мыслях, делах и чувствах великого человека.
Мы оставили его в конце 1624 или в начале 1625 года освободившимся от своего душевного маразма и уверовавшим, что на земле можно жить, лишь исполняя волю Провидения. В этой мысли он нашел свой душевный покой и постоянный стимул для деятельности. В своих религиозных убеждениях он несомненно ближе всего подходил к кальвинизму. Образ сурового Божества, нарисованный женевским пророком, непреклонно проводящего в жизнь людей идею высшей справедливости, требующего постоянного покаяния в своих грехах, постоянной борьбы со страстями и легкомыслием, не давал покоя и Кромвелю. Но было бы, пожалуй, слишком смело называть его кальвинистом и только. Кальвинизм хотя и широкая, но все же догма. Кажется, Кромвель с самого начала (впоследствии-то уж несомненно) перешел за ее границы, склоняясь все более и более в сторону безусловного религиозного индивидуализма. Своей жизнью он хотел прославлять своего Бога. Во всяком случае, он искренне сочувствовал пуританам, заботился о том, чтобы не распадались их общины, жертвовал деньги на содержание проповедников. Уверяют даже, что возле Эли все еще сохранилась часовня, где проповедовал он сам...
Несомненно, что он внимательно следил за общественной и политической жизнью своей страны. Даже в это время его имя встречается обыкновенно наряду сименами Пима, Гэмдена и других им подобных. Он не мог не интересоваться процессами Прэна, которому оторвали (не обрезали, а оторвали) уши на публичной площади, как вору и мошеннику, за неодобрение системы Лоуда-Гэмдена, не мог не следить за ними, затаив дыхание, не мог не спрашивать себя, чем и когда все это кончится. Существует легенда, будто в один туманный день будущие вожди парламента и армии – Пим, Гэмден, Кромвель – готовы были сесть на корабль и переселиться, по примеру многих своих единоверцев, в Америку – до того трудно дышалось им воздухом старой Англии, зараженным ханжеством и насилием. Легенда прибавляет, что чиновники короля, внезапно явившись, не разрешили кораблю выйти из порта. Напрасно не разрешили... если это не легенда.
Впрочем, кое-что и не легендарное мы знаем из жизни Кромвеля за этот долгий (1624 – 1637 годы) и темный период. Это “кое-что” сводится к следующему:
В марте 1628 года граждане родного города избрали Кромвеля депутатом в третий, сильно оппозиционный, парламент. Таким образом он в Вестминстере подавал голос за “Прошение о правах” – эту, как помнит читатель, жалобу на склонность клира к папизму и на покровительство, оказываемое двором иезуитам. 11 февраля 1629 года он говорил свою первую речь в религиозной комиссии. Уже давно вел он борьбу с англиканским духовенством; давно желал он распространить в общинах и повсюду чтение Библии и свободное толкование ее; он смело упрекнул своих врагов в ханжестве и нарисовал яркую картину лицемерия и низкопоклонства, существовавших в жизни клира. “Если таковы, – воскликнул он в заключение, – в церкви ступени для получения мест и повышений, то чего мы можем ожидать впоследствии?” Для показаний против одного из злейших епископов он предлагал пригласить в качестве свидетеля благочестивого Ворда, но этому помешало закрытие парламента, распущенного 2 марта 1629 года со всеми знаками королевского неудовольствия.
После этого Кромвель опять вернулся к своим пенатам и провел в деревенском уединении целых одиннадцать лет (1629 – 1640 годы). Как видно, из документов, он был немало времени мировым судьею и вел борьбу с правительством за нарушенные последним привилегии общинного самоуправления. Потом он “осушал болота”, занимался хозяйством, скорбел, глядя на охватившую все государство реакцию, помогал пуританам деньгами, советом... Но мы стали бы совершенно напрасно искать какого-нибудь блестящего события в его жизни за все эти утомительно долгие одиннадцать лет.