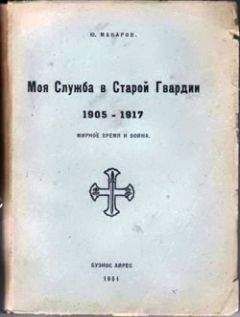«Пустяки–занятие изобрел для себя господин бывший председатель Государственной думы, — вдруг снова заработала моя мысль, но уже в веселом тоне. — Тебя, милягу, эти господчики из кабинета Временного правительства оттерли от пирога власти, а ты, сердечный, хлопочешь за них. Или думаешь этим жестом поднять свой кредит? Не знаю, кто как, а я так предполагаю, что это дешевый способ. Мобилизовать для моральной поддержки! А если все станут на точку зрения оказания поддержки лишь в форме «моральной»? Тогда и я мог бы, пожалуй, нанять десятка два хулиганов, да и тешиться себе над вами так, как вы, вместе с Гучковым, потешились над всеми нами. Краснобаи проклятые!»
А в это время на кафедре стояло уже двое. Никто их не слушал. В зале творилось что‑то невозможное. Кто хохотал, кто чуть не плакал от надрыва в тех призывах, которых и сам не понимал. Кто требовал порядка. Президиум тоже надрывался в призыве к порядку, но ничего не выходило. Нарождался хаос. Не знаю, в фарс или трагедию вылилось бы все это в дальнейшем, если бы выходивший было во время последних прений начальник школы не вернулся обратно и, с нескрываемой озабоченностью взойдя на кафедру, не пригласил бы жестом к молчанию Как ни были перебудоражены все лучшие из господ юнкеров, это появление начальника школы сейчас же привело к порядку.
— Господа, есть новости. И я прошу спокойно отнестись к тому, что будет вам сообщено и что требует немедленного вашего решения, — начал говорить начальник школы, окончательно завладевая вниманием зала. — Помимо только что полученного приказания от Главного штаба явиться сейчас же в боевой готовности к Зимнему дворцу для получения задач по усмирению элементов восставших против существующего правительства, сюда прибыл юнкер Н. от Временного правительства с призывом к вам выполнить свой долг перед родиной в момент наитягчайших напряжений, в дни, когда заседает народившийся Совет Республики. При этом я считаю своим долгом перед вами подчеркнуть то обстоятельство, что момент крайне тяжелый, что обстановка складывается очень неблагоприятно для правительства, и поэтому для принявших решение честно продолжать нести свой долг перед родиной это может оказаться последним решением в жизни, — продолжал четко, твердо говорить начальник школы.
— Мы это решение приняли! Ведите нас туда. Мы идем за вами, и только за вами!. — прервали начальника школы крики юнкеров.
— Прекрасно, господа, — среди вновь потребованного начальником школы спокойствия раздался его голос. — Прекрасно. Терять времени не будем, его у нас нет, и поэтому от слов к делу Объявляю заседание закрытым. Совет школы и комитет юнкеров, впредь до распоряжения, объявляю распущенным. Приказываю: командирам рот немедленно отдать распоряжение о разводе рот по помещениям и приготовлении к выступлению. Форма одежды — караульная. Сборное место — двор. Сбор через 20 минут. Если обед готов, то накормить юнкеров, если нет, то пища будет выдана из Зимнего дворца. Дежурный офицер — пожалуйте ко мне. Господам офицерам через 5 минут собраться в помещении столовой Офицерского собрания, — уловил я последние распоряжения начальника школы.
Что он говорил далее — не мог услышать из‑за раздавшихся команд и распоряжений, отдаваемых командирами рот и подхватываемых фельдфебелями и должностными юнкерами. «Вот это я понимаю, это я чувствую», — анализировал я свои переживания при виде систематизировавшейся массы юнкеров в компактные, организованные по слову военного искусства группы, носящие названия взводов. «Первый взвод, направо, шагом — марш!» — неслась команда, и мерный ритм возбужденного шага грузно повис над залом.
Через 2 минуты в зале никого не осталось, и я выходил из него с группой офицеров, окруживших начальника школы и выслушивавших различные приказания, однако не мешавшие острить и веселым смехом поддерживать легкость и ясность в настроении. Я внутренне торжествовал. «Это прекрасно, — говорил я себе, — бодрость залог благополучия; ну, сегодня уж постараюсь, пускай на фронте, в полку потом узнают, что я не подкачал чести мундира 25–го саперного батальона.
О, как хорошо бы или быть растерзанным штыками восставших после упорной борьбы, или стать ногою на горло вождей их и подсмеиваться им в физиономию над лицезрением ими того, как эти несчастные, обманутые ими люди будут восторженно приветствовать нас, своих избавителей, полные готовности, по первому нашему жесту, смести на нашем пути все, что только мы укажем. Дорогие Корнилов и Крымов, [17] что не удалось вам, то, Бог милостив, может быть, удастся нам!»
В столовой уже все оказалось готовым к обеду, и горячие закуски дымились посреди стола; офицеры шумно располагались за столом, продолжая, остря, комментировать всевозможные сведения, уже проникшие в школу.
Не успели мы пообедать, как в столовую вошел дежурный портупей–юнкер и доложил, что юнкера уже оделись и ожидают приказаний.
— Ну что ж. Тогда идем без обеда, — сказал начальник школы. — Господа офицеры, пожалуйте к ротам. Вы, — обратился он к находящемуся тут же, по его приказанию, поручику Б–ову, — вы будете в моем особом распоряжении, и если вы последующим поведением не загладите сегодняшней ошибки, то вам придется пенять уже на самого себя. Поручик Скородинский и вы, — относясь ко мне, продолжал начальник школы, — будьте также при мне. В школе остаются: вы, господин полковник, и вы, поручик Шумаков Надеюсь, что у вас будет все благополучно и нестроевая команда из‑под вашего наблюдения не выйдет… Вы, доктор, — обратился к вернувшемуся из кабинета доктору, — пойдете с нами. Не правда ли?.. А теперь, господа, по ротам! Выводите юнкеров; стройте и пойдем…
Офицеры быстро и шумно, но без каких‑либо разговоров, покидали столовую, стремясь к своим местам, к выполнению полученных приказаний. Даже вечно не умолкавший о всякого рода спекуляциях Николаев, с какой‑то особой серьезностью, поправляя на ходу снаряжение, ни одним словом не обмолвился, пока мы вместе шли по коридору до канцелярии, где я и поручик Шумаков отстали от общей компании, направясь в нее.
Я передал Борису ключи, обнялся с ним, а затем мы вместе вышли из канцелярии, направляясь на двор… «Что‑то будет дальше», — начинало сверлить в мозгу.
Через полчаса я шел впереди вытянувшегося батальона юнкеров на Литейный проспект. На меня было возложено командование авангардом батальона, командование которым затем принял вернувшийся капитан Галиевский, отлучавшийся к своей семье.
На улице было тихо — ничто не предвещало грозы, и если бы сзади не остались в школе трое юнкеров, отказавшихся выступить, двое — Дерум (латыш) и Тарасюк (хохол) — без объяснения причин и третий — юнкер Вигдорчик, открыто заявивший начальнику школы, через дежурного офицера, о своей принадлежности к коммунистической партии с довоенных времен, мы бы еще бодрее шли вперед. Но постепенно воспоминание об оставшихся изгладилось, и забота о внимании к окружающей жизни заняла доминирующее положение в направлении мыслей. Но все было обычно, буднично. И мысль невольно возвращалась к ранению самого себя поручиком Хреновым, о чем он прислал рапорт из дому, где это случилось при зарядке револьвера, за которым он было побежал.