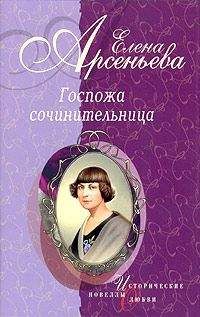В этой битве за любимого в ход шло все: склоки, сплетни, ложь (лжи было море!), угрозы, посулы… В конце концов она переманила-таки Диму к себе. Нет, в том-то и беда, что не к себе она его переманила, а к себе – и к Мережковскому, прельстив Философова, этого по-настоящему религиозного, утонченного, заблудшего юнца идеей Религиозно-философских собраний.
Тогда-то и был заключен между ними уже упоминавшийся «тройственный» союз, напоминающий брачный, для чего был совершен специальный, совместно разработанный обряд. Союз этот Зинаида, Дима и Дмитрий Сергеевич рассматривали как зачаток будущего своего рода религиозного ордена. Принципы его были следующие: внешнее разделение с государственной церковью и внутренний союз с православием, цель – установление Царства Божьего на земле. Именно деятельность в этом направлении все трое воспринимали как свой долг перед Россией, современниками и последующими поколениями. Зинаида Николаевна всегда называла эту задачу – Главное.
Что касаемо обрядов… У них была маленькая тайна. Это придумала Зинаида Николаевна. Она говорила: раз историческая Церковь так несовершенна, будем создавать новую Церковь. Такая мысль могла родиться только в голове у дамы. Они начали совершать дома некое подобие малого богослужения. Ставилось вино, цветы, виноград, читались какие-то импровизированные молитвы – это была как бы евхаристия…
Однако Дягилев тоже был не лыком шит. Немало сил потратил он на то, чтобы рассорить своего кузена с Мережковскими. Вдобавок Зинаида сама навредила себе, когда заметила взаимную склонность Димы и Дмитрия Сергеевича и попыталась повернуть событие в русло, увы, быта, а не жизни. В русло столь презираемой ею привычки! Поступила, как самая настоящая женщина…
И потеряла Дмитрия, так и не заполучив его.
Философов из Крыма чуть ли не на перекладных примчался к кузену Сереже и попросил сексуального убежища. Он даже сказывался больным, только бы Мережковские оставили его в покое! Дягилев спрятал его на своей квартире и выставил кордоны, которые пресекали все попытки Мережковского выяснить отношения. Что характерно: ни Дима, ни Зинаида не открыли Дмитрию Сергеевичу, из-за чего произошел столь внезапный, с его точки зрения, и совершенно необъяснимый разрыв.
Возненавидев Дягилева, который охранял Философова похлеще, чем Цербер – вход и выход из Аида, и обвинив в разрыве именно его, Мережковские прекратили всякие отношения с Дягилевым. Вскоре Сергей Петрович и Философов отбыли за границу.
Падают капли жаркие,
Робко, с мирным лепетом.
Мысли – такие яркие…
Сердце полно – трепетом.
Травы шепчутся сонные…
Нежной веет скукою…
Мысли мои – возмущенные,
Сердце горит – мукою…
И молчанье вечернее,
Сонное, отрадное,
Ранит еще безмернее
Сердце мое жадное…
И тут на голову «распавшейся семьи» обрушились один за другим еще два очень сильных удара. В 1903 году собрания Религиозного общества были запрещены указом Святейшего Синода, и в том же году умерла мать Зинаиды Николаевны.
И Зиночка, и ее сестры (кстати, у нее были две сестры, и обе так и не вышли замуж, как странно, да?) очень переживали смерть матери. В это время рядом с Зинаидой был Дмитрий Сергеевич – и вернувшийся из-за границы Философов (они снова сблизились, но, увы, только на тех условиях, которые предлагал Дима.) Впрочем, Зинаида готова была на все, лишь бы не потерять его. Зато с тех пор они уже не разлучались в течение пятнадцати лет.
Память о том вечере, чуть не погубившем их отношения, сохранилась только в стихах:
Вечер был ясный, предвесенний, холодный,
зеленая небесная высота – тиха.
И был тот вечер – Господу неугодный,
была годовщина нашего невольного греха.
В этот вечер, будто стеклянный – звонкий,
на воспоминание и боль мы осуждены.
И глянул из-за угла месяц тонкий нам в глаза
с нехорошей, с левой стороны.
В этот вечер, в этот вечер веселый,
смеялся месяц, узкий, как золотая нить.
Люди вынесли гроб, белый, тяжелый,
и на дроги с усилием старались положить.
Мы думали о том, что есть у нас брат – Иуда,
что предал он на грех, на кровь – не нас…
Но не страшен нам вечер; мы ждем чуда,
ибо сердце у нас острое, как алмаз.
Да, теперь она принуждена была делать вид, будто сердце у нее острое, как алмаз…
Правду знал только ее дневник. «Мадонна декаданса» декларировала этот свой титул на людях, однако сетовала наедине с собой: «Нарочно пишу всё, весь этот цинизм… то, что себе не говорила. Грубое, уродливое, пусть будет грубо. Слишком изолгалась, разыгрывая Мадонну. А вот эта черная тетрадь, тетрадь „ни для кого“, – пусть будет изнанкой этой Мадонны… Тетрадь мерзка, потому что я несовершенна, а мысли – сами по себе. Они как бы не от меня, не мне их судить и осуждать. Я – ничего не знаю. Мое дело только выявить, что во мне есть. К этому есть внутреннее стремление, выявить „ни для кого“, но выявить…»
В тетрадях «ни для кого» заключен ее символ веры:
«Зачем же я вечно иду к любви? Я не знаю; может быть, это все потому, что никто из них меня, в сущности, не любил? То есть любили, но даже не по своему росту. Но хочу верить, что если кто-нибудь полюбит меня вполне, и я это почувствую, полюбит „чудесно“… Ах, ничего не знаю, не могу выразить! Как скучно… Да, верю в любовь, как в силу великую, как в чудо земли. Верю, но знаю, что чуда нет и не будет… Хочу того, чего не бывает. Хочу освобождения… Я люблю Дмитрия Сергеевича, его одного. И он меня любит, но как любят здоровье и жизнь. А я хочу… я даже определить словами моего чуда не могу…..Мысли о Свободе не покидают меня. Даже знаю путь к ней. Без правды, прямой, как математическая черта, нельзя подойти к Свободе. Свобода от людей, от всего людского, от своих желаний, от – судьбы… Надо полюбить себя, как Бога. Все равно, любить ли Бога или себя…»
Боже мой, бедная женщина, которая никогда, ни разу не побывала в объятиях мужчины, в его постели… Несчастная, неудовлетворенная, непорочностью своей замученная…
Смотрю на море жадными очами,
К земле прикованный, на берегу…
Стою над пропастью – над небесами, —
И улететь к лазури не могу.
Не ведаю, восстать иль покориться,
Нет смелости ни умереть, ни жить…
Мне близок Бог – но не могу молиться,
Хочу любви – и не могу любить.
Я к солнцу, к солнцу руки простираю
И вижу полог бледных облаков…
Мне кажется, что истину я знаю —
И только для нее не знаю слов.
«Любовь нерассказуема», – изрекла она как-то.
Это не Мережковскому, это ей, Зинаиде, отомстила Афродита. Ибо ревнивы боги, а уж богини-то – подавно ревнивы и завистливы к красоте.