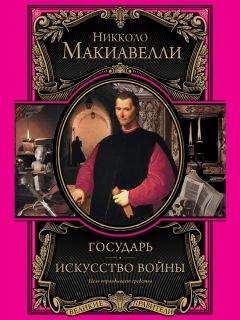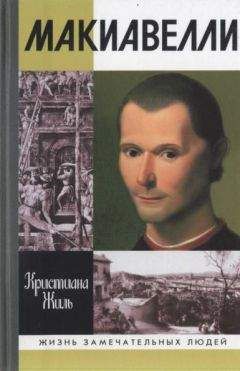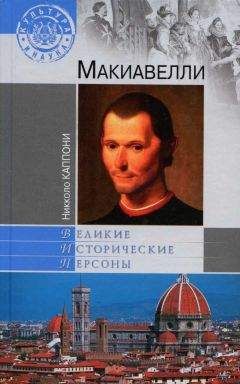Самое удивительное то, что наряду со всем этим Никколо был очень привязан к семье. По-настоящему, по-хорошему. Несмотря на все грехи, он никогда от нее не отдалялся. Когда его дела шли плохо, его больше всего тяготило, что будет нуждаться его «команда» (la brigata). В письмах к детям, особенно более поздних, есть неподдельная теплота. Но Никколо не хочет давать ей воли: он не умеет быть нежным на словах. И мона Мариетта, жена его, по-видимому, эти вещи понимала хорошо.
У нее было много такта, беспутного мужа своего она принимала каким он был, очень его любила и была превосходной матерью. Из их многочисленного потомства пятеро выросли и пережили отца. Умер Никколо как добрый семьянин, на руках у жены и детей[266]. И ни из чего не видно, чтобы свои внесемейные увлечения Макиавелли считал чем-то непозволительным. Для него это – вещи другого ряда, и только. Таких distinguo[267] у него сколько угодно.
Он без всяких усилий переключал себя из одного настроения в другое. И не только когда дело касалось интимных отношений. В письмах первых, самых тяжелых лет после жизненного крушения 1512 года – целый калейдоскоп набросков, рисующих его срывы и взлеты.
«Томмазо сделался чудным, диким, раздражительным и скаредным до такой степени, что, когда вы вернетесь, вам будет казаться, что это другой человек. Я хочу рассказать вам, что у меня с ним вышло. На прошлой неделе он купил семь фунтов телятины и послал к Марионе. Потом ему стало казаться, что он истратил чересчур много, и, желая сложить на кого-нибудь часть издержек, он пустился клянчить себе компаньонов на обед.
Я пожалел его и пошел вместе с двумя другими, которых я же и сосватал. Когда обед кончился и стали рассчитываться, на долю каждого пришлось по четырнадцать сольди. При мне было только десять. Четыре я остался ему должен, и он каждый день их у меня требует. Еще вчера приставал он ко мне с этим на Ponte Vecchio… У Джулиано дель Гуанто умерла жена. Три или четыре дня он ходил, как оглушенный судак.
Потом встряхнулся и теперь хочет непременно жениться снова. Все вечера мы просиживаем на завалинке у дома Каппони и обсуждаем предстоящий брак. Граф Орландо все еще сходит с ума по одному мальчику известного сорта, и к нему нельзя подступиться. Донато дель Корно открыл другую лавочку»[268].
«Когда я бываю во Флоренции, я делю свое время между лавкою Донато и Риччей. И кажется мне, что я стал в тягость обоим. Один зовет меня несчастьем своей лавочки (impaccia-bottega), другая – несчастьем своего дома (impaccia-casa). Но и у него, и у нее я слыву за человека, способного дать хороший совет, и до сих пор эта репутация настолько мне помогала, что Донато позволяет мне погреться у камелька, а Ричча дает иной раз, правда украдкою, поцеловать себя.
Думаю, что эта милость продлится недолго, потому что и тут и там мне пришлось дать советы – и неудачно. Еще сегодня Ричча сказала мне, делая вид, что разговаривает со служанкою: “Ах, эти умные люди, эти умные люди! Не знаю, что у них в голове! Кажется мне, что им все видится шиворот-навыворот”»[269].
Ничего страшного, однако, не произошло. «Наш Донато вместе с приятельницей, о которой я вам как-то писал, – единственные два прибежища для моего суденышка, которое из-за непрекращающихся бурь осталось без руля и без ветрил (senza timone et senza vele)»[270].
Мещански-серое, не очень сытое, уязвляющее на каждом шагу самолюбие житье в городе беспрестанно гнало Никколо в деревню и заставляло подолгу там оставаться. У него было именьице, называвшееся Альбергаччо, в Перкуссине, неподалеку от Сан-Кашьяно, по дороге в Рим. Там, худо ли, хорошо ли, мог он жить с семьей не попрошайничая, имел кров, пищу и даже общество, правда, иной раз самое неожиданное.
«Встаю я утром вместе с солнцем и иду в свои лесок, где мне рубят дрова. Там, проверяя работу предыдущего дня, я провожу час-другой с дровосеками, у которых всегда имеются какие– нибудь нелады с соседями или между собою. Из лесу я иду к фонтану, а оттуда – на птичью ловлю[271]. Под мышкою у меня всегда книга: или Данте, или Петрарка, или кто-нибудь из менее крупных поэтов – Тибулл, Овидий, другие.
Читаю про их любовные страсти, про их любовные переживания, вспоминаю о своих. Эти думы развлекают меня на некоторое время. Потом прохожу на дорогу, в остерию, разговариваю с прохожими, расспрашиваю, что нового у них на родине, узнаю разные вещи, отмечаю себе разные вкусы и разные мнения у людей. Тем временем настает час обеда. Я ем вместе со всей командою (la brigata, то есть семья) то, что мое бедное поместье и малые мои достатки позволяют.
Пообедав, возвращаюсь в остерию. Там в это время бывает ее хозяин и с ним обыкновенно мясник, мельник и два трубочиста. В их обществе я застреваю до конца дня, играю с ними в крикку и в трик-трак[272]. За игрою вспыхивают тысячи препирательств, от бесконечных ругательств содрогается воздух. Мы воюем из-за каждого кватрино[273], и крики наши слышны в Сан-Кашьяно. Так, спутавшись с этими гнидами (pidocchi), я спасаю свой мозг от плесени и даю волю злой моей судьбине: пусть она истопчет меня как следует, и я погляжу, не сделается ли ей стыдно.
Когда наступает вечер, я возвращаюсь домой и вхожу в свою рабочую комнату (scrittoio). На пороге я сбрасываю свои повседневные лохмотья, покрытые пылью и грязью, облекаюсь в одежды царственные и придворные (reali e curiali). Одетый достойным образом, вступаю я в античное собрание античных мужей. Там, встреченный ими с любовью, я вкушаю ту пищу, которая уготована единственно мне, для которой я рожден.
Там я не стесняюсь беседовать с ними и спрашивать у них объяснения их действий, и они благосклонно мне отвечают. В течение четырех часов я не испытываю никакой скуки. Я забываю все огорчения, я не страшусь бедности, и не пугает меня смерть. Весь целиком я переношусь в них»[274].
Это замечательное письмо, которое наряду с последней главою «Il Principe» обошло все хрестоматии, дает ключ ко многому. «Пусть судьба истопчет меня – я посмотрю, не станет ли ей стыдно». Какое отчаяние, какой безнадежный пессимизм в этих словах! Ведь все, что в характере и в поведении Никколо так злило и так оскорбляло современников, – все в этом крике души.
Жизнь била его, не давая вздохнуть. Впереди ничего. Так пусть же он будет еще хуже, чем о нем думают. Пусть все знают, до какого смрадного дна способен он докатиться. Пусть все морщатся от его сарказмов и мефистофельского его смеха. Пусть! «Средь детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он».
А способен ли кто-нибудь после глубочайшего падения взлететь к солнцу, «когда божественный глагол до слуха чуткого коснется»? Из грязной придорожной деревенской остерии, из москательной лавки Донато, из домика захудалой куртизанки способен ли кто-нибудь перенестись сразу в общество величайших мужей древности, упиваться «беседою» с ними, парить в недосягаемой высоте творческих экстазов? Только он. Этого не хотят видеть? Не хотят его признавать? Тем хуже! Прикосновение к тому вечному, что есть у древних, даст в нем выход родникам мысли, и, выпрямленный, он будет создавать ценности, равные античным.