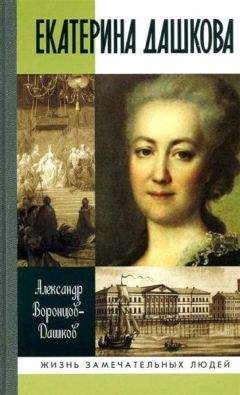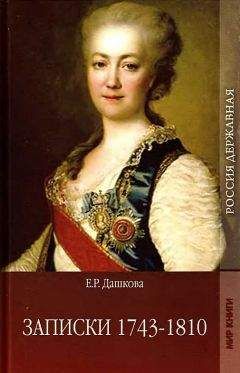В начале зимы 1809 года Дашкова, слабая и больная, вернулась в Москву. Когда ее состояние ухудшилось, прописанные кровопускания только еще более лишили ее сил. 4 января 1810 года она скончалась. Венедикт Малашев, сын ее бывшего управляющего, крепостной и дворовый музыкант, описал ее последние дни и сопровождал гроб из Москвы для погребения в Троицком. Поминальная служба прошла в церкви Вознесения на Никитской напротив ее дома. В согласии с волей покойной эскорт драгун последний раз сопровождал ее в имение. Душеприказчик Петр Санти и несколько друзей и родственников присутствовали на похоронах; кроме них, церковь наполняли только люди из окрестных деревень и любопытные зеваки[771].
В конце 1980-х годов, накануне развала Советского Союза, я смог осуществить свою многолетнюю мечту и посетить Троицкое — усадьбу, которая была для Дашковой гораздо больше чем просто домом и память о которой она так преданно сохранила в «Записках». Ирония заключалась в том, что, будучи местом изгнания вдали от петербургской власти, Троицкое также стало для княгини противоядием от физической и духовной неприкаянности ее юности. В самой сердцевине ее внутренних поисков смысла и самоопределения оно дало ей чувство непосредственности, и тем не менее оно являлось физическим воплощением внутреннего ощущения потери и лишения. Троицкое было ее раем — потерянным, обретенным и вновь потерянным.
Война 1812 года истощила Воронцовых экономически, и они продали многие имения Дашковой, но Троицкое оставалось их собственностью до начала XX века. Оно было потеряно во время революции и Гражданской войны, когда многие члены семьи погибли, а некоторые были казнены как «идеологически опасные элементы». Моя бабушка, беременная моим отцом, была арестована вместе с другими членами семьи и отправлена на расстрел. Они спаслись чудом, когда один из охранников отпустил их, и покинули Россию навеки, чтобы создать свои жизни заново в чужих краях[772]. Поскольку Россия стремилась строить новое социалистическое государство, память о Дашковой ушла в небытие, о ней почти не вспоминали. Ее семья более не жила в России, а Троицкое, переименованное в Большевик, стало совхозом. Однако Дашкова не исчезла совершенно, ее можно было найти выставленной на виду у всех в самом центре на площади Островского. Там, по замыслу автора монумента М. О. Микешина, императрица Екатерина Великая стоит на высоком постаменте, окруженная придворными и сторонниками: Суворовым, Румянцевым, Орловым, Бецким, Потемкиным, Чичаговым, Безбородко и Державиным.
Среди них сидит с книгой в руках единственная женщина — княгиня Дашкова.
Более чем через шестьдесят лет после того, как семья Дашковой покинула Россию, я был первым из ее потомков, до сих пор носящим ее фамилию, который посетил Троицкое, расположенное теперь совсем недалеко к югу от Москвы. С двойной фамилией и двойной русско-американской идентичностью я намеревался вновь обрести свое прошлое и происхождение, разобраться в остатках экспроприированной истории семьи и найти свое место среди теней предков. Отождествление и отталкивание, влечение и отвращение формировали мое отношение к России и моей собственной «русскости». Путешествие обещало привести к важным открытиям, поскольку я хотел вернуться в дом предков и тем самым встретить и понять природу моего собственного отношения к утерянному родовому наследию.
Я собирался проникнуть в волшебный мир моих снов и детских историй, заколдованное царство старой, сказочной России и семейных воспоминаний об утерянном жилище Дашковой — парке и садах, дубах и березах, виде, открывавшемся на Протву. Я хотел попасть в старомодный, привлекательный и романтический уголок провинциальной России, но оказался в самом сердце суровой советской действительности, когда прибыл в Кременки — современный город с населением около 13 тысяч человек. Депутация местных жителей привела меня к темным и покинутым жилищам, которые я смог различить вдали за рекой. По мере того как мы шли по длинной грязной дороге, по краям которой стояло несколько сохранившихся лип, волшебная страна воображаемого прошлого наталкивалась на реальность с ее бедностью, алкоголизмом и безысходностью. Постепенно я начал понимать это место, проступавшее из-под семейных преданий, деревенских мифов, наслоений советской идеологии и руин бывшей усадьбы Дашковой.
Сохранилось очень мало — местность была разорена, община разрушена, ландшафт изменился до неузнаваемости. Изменились и люди. Ржавая сельхозтехника была разбросана по экспроприированной земле; барский дом исчез — местные жители разобрали его на кирпичи для постройки своих домов и сараев. Остались лишь руины немногих усадебных построек и бывшей мельницы, а также рассыпавшиеся и подпертые кольями главные ворота, одиноко и бессмысленно стоявшие в чистом поле. Дашковский «Парнас», где она как-то ожидала курьера от императрицы, совершенно скрылся за разросшимися деревьями и напоминал древний могильный курган. Обелиск остался стоять безымянным на голом холме, его происхождение и смысл забылись. Метрах в пятнадцати среди зданий совхоза бросались в глаза огромные гранитные серп и молот. Построенная Дашковой церковь была заперта, заколочена и заброшена. Опустевшая колокольня все еще стояла, но ее колокола были сняты и переплавлены, их молчание пробуждало ощущение пустоты и эхо внутреннего диалога между мечтами прошлого и сегодняшней реальностью, между верой и осквернением святого места. Когда местные жители, многие из которых были потомками крепостных Дашковой, разбивали иконы и растаскивали из церкви «предметы культа», они разорили и могилу княгини. От нее ничего не осталось, и представители городских властей не разрешили мне войти в церковь. Однако, согласно деревенскому поверью, школьная учительница в городе сохранила надгробие Дашковой, пряча его у себя дома в течение многих лет. Когда это стало безопасным, она отдала его Калужскому краеведческому музею, гордясь достижениями Дашковой и, возможно, уподобляя себя ей как деятель образования и русская женщина.
На приеме после поездки говорили о совместных предприятиях и реставрационных проектах в миллионы долларов, а множество официальных тостов за обновление Троицкого сталкивались в моем сознании с опустошенностью и унылым молчанием срубленных вишневых садов. Мое стремление вновь обрести прошлое было неправильно истолковано: капиталовложения, имущественные сделки и ипотечные мелодрамы не имели никакого отношения к внутренней необходимости обрести потерянные воспоминания. Реальные или воображаемые, они находились где-то в пространстве между мечтой и разрушительной реальностью возвращения домой. Тем не менее, хотя боль и разочарование возвращения и ранили, в них заключался и путь переоценки, освобождения и продолжения. Всякая возможность реального возрождения священного для Дашковой места исчезла перед лицом оскверненной земли, где когда-то стояла ее церковь. Вид разоренной церкви усилил образ потерянного дома, семейной святыни, и этот образ для меня теперь целиком зависел от реконструкции в тексте.