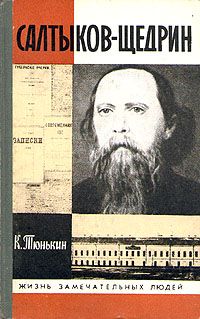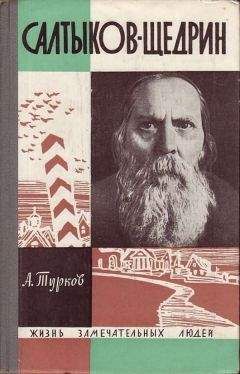Отношения Любови Александровны и Петрушки как бы прообразуют, предвещают те отношения, которые складываются между глуповцами и Иванушками.
Роковая сила обстоятельств поработила старую барыню своему холопу. Та же сила подчиняет и Глупов.
Но не только сила обстоятельств заставляет глуповцев приблизить к себе Иванушек, но и расчет. Умирающий Глупов пытается спасти себя за счет полных жизни Иванушек. Может быть, Иванушки (в Глупове они именуются «непочатыми родниками»23)настроят глуповскую жизнь на иной, новый ряд? «А что, если в самом деле эти подлецы Ваньки молчали-молчали, да все думали? А может быть, они до чего-нибудь и додумались? А может быть, в них-то и сила вся?»
Глуповцы рассуждают при этом так: если Иванушка и додумался, если в нем и вправду сила, то надо призвать его, чтобы подал полезный совет, а затем пусть скроется... немедленно! Немедленно, «ибо всякая дальнейшая в этом смысле проволочка может повредить его собственным интересам, может отвлечь его от приличных званию его занятий». Славная наша история, разглагольствуют «старшие» глуповцы, «везде и всегда показывает она нам Иванушку надежною опорой глуповской славы и глуповского величия! везде и всегда она представляет его: в мирное время кротко возделывающим землю, во время брани — беспрекословно сеющим смерть в рядах неприятельских... Ужели же теперь он захочет изменить столь славным преданиям? Ужели теперь, когда наш старый, славный Глупов трещит, он не потщится вместе с нами восстановить его посрамленную физиономию?»
Ну а если не потщится? Что же, тогда «никто не может воспрепятствовать нам своевременно изыскать средства», прибегнуть к соответствующим «мероприятиям» или (если раскрыть смысл иносказаний Салтыкова) экзекуциям. Ведь бывали случаи, когда Ваньки «даже очень достаточно пакостили, но, получив в непродолжительном времени возмездие, скрывались и на долгое время уже не огорчали Глупова проявлениями своей необузданности». Было это (подразумевает Салтыков) и во время разинского бунта и во время крестьянской войны Пугачева, да и совсем недавно, в прошлом году, по случаю объявления «воли».
Ну а если Иванушка и не поддастся всем этим средствам и мероприятиям, не потщится восстановить посрамленную глуповскую физиономию? И Сидорыч лезет к Иванушке целоваться, предлагает ему забыть прошлое, приглашает к «сожительству». Но «Ванька столь же мало может согласиться на сожительство, как и на поцелуи». (Как тут не вспомнить, что совсем недавно сам Салтыков, да и тверская оппозиция, видел «истинные интересы дворянства» в таком «сожительстве» — сближении и даже слиянии с крестьянством.) Иван хочет только одного — чтобы оставили его в покое. Потрудился-таки, помаялся он на своем веку, надо ему и отдохнуть: «Сидорыч! а Сидорыч! останемся пока на своих местах, — говорит он, — там что выйдет: твоя возьмет — ты барин; моя возьмет — я барин!» И говорит так потому, что наверное знает, что возьмет его, а не Сидорычева».
И, пожалуй, наиболее сложна своими иносказаниями, намеками, эзоповым языком последняя сатира глуповского цикла «Каплуны», так и названная в подзаголовке — «Последнее сказание».
Сатира Салтыкова вырастала из глубин его возмущенного духа, питалась болью его сердца. В этом смысле — она всегда субъективна, даже в наиболее «объективных», эпических созданиях, как ранних, так и поздних.
Но были у него и такие произведения, которые непосредственно и прямо выражали личный опыт, диктовались необходимостью осмыслить свою деятельность, увидеть ее дальнейшие пути, определить ближайшие поступки. В таких произведениях сплавляются воедино тоскующая, мучительная исповедь и гневная, полная страсти и огня проповедь, лирическая тональность и сатирический сарказм.
К числу таких произведений принадлежит и сатира «Каплуны» с ее трудной, драматической судьбой; и в содержании «Каплунов» и в судьбе ее отразилось непростое положение Салтыкова — крупного правительственного чиновника — в наиболее близком ему лагере социалистов и демократов. Ему приходилось слышать раздававшиеся из этого лагеря не только горькие упреки, но и прямые обвинения (обвинения несправедливые).
Салтыков обрушивает «Ювеналов бич» на головы каплунов-людей, безмятежно курлыкающих в самоуслаждении, в то время как неустойчивая и «трепещущая» действительность призывает к действию и борьбе. Салтыков защищает свою позицию деятельного вмешательства в жизнь, изнемогающую под гнетом насилия и неправды.
Каплун — птица нешуточная, солидная, пользующаяся уважением, пишет Салтыков, разумея под «каплунством» определенный тип общественного поведения. «Каплун — консерватор по природе и даже несколько доктринер». Он усовершенствовал знаменитую доктрину героя повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» — доктора Панглоса, утверждавшего, что все идет к лучшему в этом лучшем из миров. Доктрина каплуна: мир достаточно прекрасен, чтобы нуждаться в изменении к лучшему.
И это самоудовлетворение, самодовольство в то ужасное время, в те страшные минуты в истории, «когда случайность и заблуждение делаются как бы общим руководящим законом для всего живущего, когда летопись с каким-то горьким нетерпением жгучими буквами заносит на страницы свои известия... все об ошибках, да об уступках, да о падениях», когда насилие «в предсмертной агонии еще простирает искривленные судорогой руки, чтоб задушить ищущее, но не обретающее, алкающее, но не находящее утоления...».
И в эту тяжелую минуту каплуны курлыкают! Они удовлетворены, они самоуспокоились, они отрицают «личное деятельное участие в жизни».
«Глупов! милый Глупов! Кто ж похлопочет об тебе?»
Каплуны настоящего — это просто глуповцы, апологеты глуповской жизни и глуповского миросозерцания. Мелодично их курлыканье, но в нем есть недомолвка. Можно ли «удовлетвориться жизнью с распространенными в воздухе миазмами, с рыскающими по улицам волками? «Жизнь дает, жизнь поступается!» — но ведь она дает смерть, но ведь она поступается веревкой на шею!»
«Еще мелодичнее курлыканье каплунов будущего. В нем все стройно, все чуждо непотребства сделок и компромиссов. Мелодия развивается просто и ясно: махни рукою на жизнь, потому что она не стоит того, чтоб с ней связываться; прикосновение к ней может только замарать честного человека; обратись к идеалам и живи в будущем... Однако и в этом курлыканье есть недомолвка. Несомненно, что текучая жизнь изобилует мерзостью и что формы ее перед судом безотносительной истины резко несостоятельны, но на практике дело складывается несколько иначе. Вот мерзость мерзкая, и вот мерзость еще мерзейшая: я оставляю за собой право выбора и избираю просто мерзкую мерзость предпочтительно перед мерзейшею. Я не только не отрицаю идеалов, но даже нахожу, что без них невозможно дышать, и за всем тем не могу, однако, признать, чтоб мне следовало жить только в будущем, потому что у меня на руках настоящее, которого мне некуда деть и которое порядочно-таки дает мне чувствовать себя всякими тычками и пощипываниями. Куда я уйду от него? запрусь ли? стану ли в стороне?