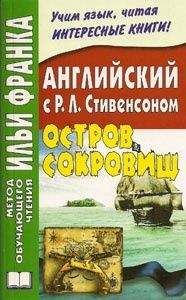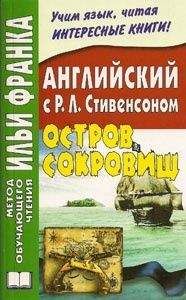В известной мере, это возвращение, переосмысление исходного задания Карамзина. Решение его видится опытом во всяком смысле многообещающим.
1 «Красный миф» о революции 1917 года, возможно, более масштабен, но одновременно прямолинеен и в своей замене одной истории на другую биполярно прост и груб. Он политизирован, является предметом жесткого (зачастую лобового) классового спора и не составляет общего для всех россиян предмета веры. В него верует часть России. В историю, что показывает нам «зеркало» начала XIX века, верует вся Россия: видит ее целостно, округло и по-пушкински сейчас.
2 Причины понятны: Россия в ментальном плане еще не вполне переменилась после начала петровских преобразований. Во многих отношениях она пребывала тогда в промежуточном состоянии, в том числе в отношении собственного письменного языка. Он понемногу менялся, оглядываясь то на голландский и немецкий образец (при Петре), то на французский (при Елизавете). При Екатерине вновь оживились русские «немцы». Грамматика была полем частных упражнений. Громоздкий, неповоротливый, переставляющий глаголы из начала предложения в конец и обратно, письменный русский язык влачился по странице, как перегруженная телега. Каково ему было поспеть за скоро бегущими иноземцами? К этому добавлялась диглоссия, двуязычие, которое с допетровских времен разделяло русский язык на письменный и устный. Русский письменный язык до Петра был языком исключительно церковно-славянским; на нем писал чиновник (дьяк), на нем велась служба в храме и писалось всякое письмо, государево и частное. Русский живой язык оставался устным, он не был перенесен на бумагу. Петр только приступил к его реформе, помещению устного слова на бумагу; это его действие, как и многие другие, было грубо. Петр действовал точно топором или стамеской, выравнивая строй слов и самые буквы, отсекая у них — точно у бояр бороды — «лишнюю» вязь, переменяя одежду языка. Результаты переодевания были противоречивы. На протяжении всего XVIII века русская диглоссия по инерции сохраняла силу: колеса письменного языка, и без того перегруженного заимствованиями, вязли в этой архаической традиции. Буквально видимо — в церковной, медленно текущей вязи. Письменный русский язык не просто шел медленно, он всякую минуту готов был остановиться.
3 Ломоносов, меняя письменный русский язык, налагал на него другие — «физические» и «химические» — законы. Он действовал как механик, учитывая ритм, состав и массу слов, их плотности и ударения, сцепления и связи. Русский язык был тогда открыт для многих опытов; Ломоносов видел его как большую лабораторию, где на его глазах совершались перемены словесной плоти. Задача рефлексии, точного отражения языком современного бытия, первым всерьез увлекла Карамзина. Поэтому он «оптик», рефлектор, а не химик с колбой, в которой варятся буквы.
4 Эту метафору мне привел и расшифровал Алексей Прокопьев, поэт и переводчик с немецкого. Строительные «леса» языка, греческие грамматические конструкции, по его словам, послужили делу перестройки немецкого языка дважды. Сначала они составили прежнему языку подобие внешнего каркаса, сообщив ему тем самым саму идею пространства сознания, а затем так и остались в его обновленном сооружении, сохранив свою конструктивную и «оптическую» функцию. (См. на эту тему эссе «Конькобег и гармонист», Октябрь, 2002, № 12.)
5 Это нешуточная история. Ленц в самом деле склонялся к образу юродивого. Такое иногда случается у нас с немецкими миссионерами, добрейшими и самыми беззащитными из всех иноземных проповедников. Первым юродивым на Руси был немец, прусский князь, получивший в Новгороде, при крещении в православную веру, имя Прокопий. Это было в конце XIII века. Прокопий прошел северным путем до города Устюг, где прославился многими подвигами и стал в итоге небесным покровителем города. Одно из чудес, произошедших с ним, было таково: как-то раз зимой он ночевал на улице (ему по рассеянию не оставили открытой дверь, и он провел ночь на крыльце в самый лютый мороз). Что такое мороз в северном городе Устюге, известно: у нас там родится Дедушка Мороз. Блаженный Прокопий всегда был бос и из одежды имел одно ветхое рубище, едва его прикрывавшее. Он должен был замерзнуть насмерть — но не замерз. Божье дыхание согрело его; он проспал на крыльце всю ночь и к утру был жив. И вот завершение истории, сравнения немцев Прокопия и Якоба Ленца. Однажды Ленц зимней ночью остался в Москве на улице — и замерз насмерть. Непонятно, собирался ли он повторить подвиг блаженного Прокопия (вряд ли он вообще о нем знал), или, по своему обыкновению, решил так странно пошутить, однако шутка с московскою зимой ему не удалась. Карамзин был глубоко опечален его гибелью. В «Письмах русского путешественника» Ленц не однажды упоминается как несчастный Л*.
6 Может быть, эту завитую форму шпиля определила драма, что совершилась за полвека до появления на Чистых прудах Николая Карамзина? Первоначально на этой высокой церкви был помещен еще трижды высокий прямой шпиль, подобный Петропавловскому в Петербурге. Тогда крест на Архангельской церкви вознесся выше креста на колокольне Ивана Великого в Кремле. За это, по убеждению москвичей, храму последовало наказание: в него ударила молния. Начался пожар; гордый «петербургский» шпиль был уничтожен. Вместо него явилась эта осторожная изящная фигура. Она не посягает на небеса, не прокалывает их иголкой, но — по-московски — только обозначает «верх». Пространство поверх него условно.
7 Нужно будет внимательнее рассмотреть (не прочитать, но рассмотреть) «Капитанскую дочку» Пушкина, положить ее на карту. Записки Державина также неплохо будет осветить «географически». Это другая история: предстоит поход на восток; здесь мы рассматриваем западное странствие Карамзина.
8 «Экспедиция 10-го года» литературно-исследовательской группы «Путевой Журнал» (Андрей Балдин, Рустам Рахматуллин, Геннадий Вдовин, Владимир Березин). Задачей экспедиции было повторение последнего маршрута Толстого из Ясной Поляны в Астапово в октябре — ноябре 1910 года.
9 Владимирская церковь; откуда в усадьбе возьмется собор? Но эта церковь оказалась столь велика, так превосходила в своем размере барское имение, от которого к тому же остались одни фрагменты, что осталась в моей памяти собором. Пусть так и остается в этом тексте собором: это образ, значение которого в свою очередь превосходит локальное значение церкви в Баловневе, равно и самого Баловнева.