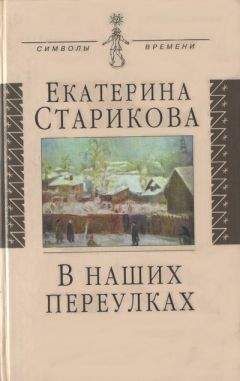«И ко мне подбиралась весна, кровь билась в жилах так громко, будто выстукивали шаги». Серый, предвещавший весну, туман за окном приобрел волнующую таинственность. Сырой влажный ветер нес через открытую форточку обещания. Тяжелые капли воды на голых ветвях деревьев стали казаться чудом. Но хотела я любви. Любви томительной, страстной и несчастливой. Я стала ждать её.
И надо же, чтобы именно в эти дни, забежав к папе на Кропоткинскую, я услышала от Анны Ивановны, что она недавно побывала у Артамоновых на Абельмановской заставе — такая даль! — и видела над кроватью у Павлика мой портрет. «Сам нарисовал. Похоже. Только почему-то ты в римской тоге с обнаженным плечом», — с улыбкой добавила Анна Ивановна. «Это потому, что он срисовывал с косогорской фотографии, где я в сарафане, вот плечи-то и голые», — смеясь, объяснила я, и виду не показывая, что придаю хоть какое-то значение услышанному. А сердце гулко забилось. Вот оно! Как я забыла о Павлике?
К его постоянным посещениям нашего дома я привыкла и давно уже не гадала, кому из нас, девочек, он отдает предпочтение. Кажется, он делил его поровну. И что портреты он делает с фотографий, в том числе моих, знала, сама дала ему ту, где я в сарафане. Он же готовится в архитектурный институт, ему надо упражняться в рисунке. Но сейчас, после «Пана», всё приобретало значительность. Ведь не каждый же рисунок он вешает над своей кроватью? Неспроста же такое? И все закружилось.
Как почувствовал Павлик мой бессловесный зов? Не знаю. Помню только, что я вдруг стала получать от него письма — не по почте, а прямо из рук в руки, — какие-то смутные, туманные, с непонятными намеками и угрозами. Еще лучше помню, что уже 30 марта, в день Алешиных именин (Алексей-Человек Божий, с гор потоки), почему-то было решено уничтожить эти письма. И на нашей черной лестнице, на каменном подоконнике мы с Павликом сожгли всю нашу переписку в знак роковой неразрешимости наших отношений. Алеша присутствовал при этом, нимало не интересуясь смыслом происходящего, деловито занятый процессом разведения костра.
А еще через несколько дней был вечер в «чужой школе», куда был приглашен и наш класс, и я позвала туда с собой Павлика. И вот там, в чужой школе, у темного мокрого окна он как-то отчаянно невесело сказал мне о своей любви. Я хоть и ждала многого от этого вечера, была в полном смятении от прямоты выраженного чувства и не могла и слова вымолвить пересохшими шершавыми губами. А он требовал ответа. Какого? Я сказала, что отвечу через несколько дней. Когда? Где? Вопросы звучали грозно. И я тут же придумала: 17-го, в четыре, в Третьяковской галерее, в зале Врубеля. Услышав мой ответ, Павлик отвернулся и бегом выбежал из школы. А я шла домой вместе с Тамарой сквозь мокрый, лепящий, совсем ноябрьский снег, шла, потрясенная и несчастная. Первое объяснение в любви и первое свидание. Почему мне так плохо? Почему я не хочу его?
Но оно наступило, сверкающее синими лужами, звенящее ручьями 17 апреля. И я уже с веселым любопытством прибежала в Третьяковку. И в совершенно пустом сумрачном зале у поверженного Демона нашла мрачного и решительного Павлика. Видимо, отсвет сияющего апрельского дня еще был на моем лице, потому что, только взглянув на меня, мой угрюмый друг просиял. И мы тут же, избегая чего-либо серьезного, заговорили о картинах. Он просвещал меня и объяснял мне величие Врубеля. Ведь само выбранное мною место свидания означало многое и было косвенным лукавым обещанием чего-то. Это он любил Врубеля. Я-то любила Серова. И вот мы стоим перед его кумиром, как перед алтарем. И оказалось, что никаких роковых ответов не надо. Я пришла, я приняла Врубеля, мы вместе. Какие еще слова? А потом мы идем сине-золотыми апрельскими улицами, разбрызгивая лужи, — через мосты, набережные, площади. Павлик провожает меня до дому. А завтра вечером он, конечно, будет у нас.
Он бывал у нас в ту весну каждый вечер. Никаких признаний он от меня так и не услышал. Но я ждала его приходов, мне, как вино пьянице, нужно было волнение ожидания, любование мною, смена веры и неверия в его блестевших за очками глазах. Он объяснял мне задачи по математике и физике — он же был на два класса старше меня, он рисовал мои портреты, а копируя репродукции Врубеля, говорил, что я похожа на женщину с картины «Испания». Это я-то! Но накинув на голову мамин белый оренбургский платок (подарок учеников) узорными краями к лицу, я со смехом переспрашивала: «Вот так, наверное, больше похожа?» Павлик по-прежнему иногда спорил с мамой о политике. Вечный спор о колхозах! Но затягивая старый спор, Павлик ждал самого-самого позднего часа, когда так и не дождавшись его ухода, мама и дети ложились спать за ширмой, а мы по-прежнему сидели за письменным столом, делая вид, что по-прежнему решаем задачи. Павлик молча рисовал букет ландышей, стоявший перед нами в стакане, и на самом краю листа писал: «Ты подаришь мне эти цветы?» А я на том же краю карандашом: «Столько ландышей, сколько ты нарисуешь». И все в таком же роде. Но однажды он написал: «Ты разрешишь мне тебя поцеловать?» И я тем же карандашом: «нет». Но провожая его до черного входа (парадный запирали на ночь), я долго, слишком долго искала тяжелый крюк, которым закрывалась кухонная дверь на лестницу. И он наконец-то догадался, что значит это промедление. Нет, не того я ждала. В этом жадном прикосновении жестких чужих губ не было ничего приятного, а в неловкой позе тем более. К тому же черная закоптелая кухня, хотя и не видная, но отчетливо пахнущая керосином, плохо вязалась с тем культом природы, который в моем воображении почитательницы «Пана» соединялся с любовью. Еще несколько раз я повторила опыт. Но уже не в кухне, а спустившись с поздним гостем в пустой ночной двор. Может, звездное небо поможет? Однако кроме майского неба над нашими головами, рядом была помойка. Я боялась крыс и не могла забыть об их возможном присутствии. Как-то постепенно я перестала провожать своего ночного гостя, торопя его теперь на последний трамвай. И он не настаивал. Видно, он в свои восемнадцать лет мечтал уже о других поцелуях. Это я сейчас догадываюсь. Тогда как-то и что-то стало понемножку меняться.
Той весной мой молчаливый зов услышал не один Павлик. Я стала замечать, что Алеша Стеклов как-то особенно грустно смотрит на меня. Но такой привычный, надежный, благоразумный, он уже совсем не годился на роль лейтенанта Глана. Достаточно того, что это именно он приносил мне теперь один за другим томики Гамсуна, выпрашивая их из тщательно оберегаемого собрания любимых книг своей матери.
И еще к нам зачастил вдруг Роберт Медин. Он и всегда бывал у нас, но учился он на класс отставая от меня и был в моих глазах моложе меня, и уже потому я не обращала на него никакого внимания. И вдруг он как-то неожиданно вырос, стал совсем взрослым. «Сколько же тебе лет?» — спросила однажды мама. «Только что исполнилось восемнадцать, — ответил он гордо. — Я, наверное, брошу школу, стыдно у отца на шее сидеть. От сам так говорит». Тут-то все и вспомнили, что Роберт пропустил два класса, когда снимался в кино. Школу Роберт действительно в сороковом году бросил, поступил работать и однажды в мае явился к нам в новеньком светлом костюме, купленном на первый заработок. В настоящем мужском костюме! Ни у кого из мальчиков костюма еще не было. И когда Роберт предложил мне «прошвырнуться» с ним по Арбату, мне показалось это заманчивым и даже лестным. С таким костюмом! «Мы всего на полчасика!» — сказала я маме, захлопывая дверь из передней на лестницу и оставляя в передней рядом с мамой отчаянные глаза Павлика. «Она меня не любит, нет, она меня не любит…» — горестно приговаривал он, а мама не преминула мне об этом сообщить да и свой совет ему не утаила: «А ты на нее меньше обращай внимания. Попробуй». А на следующий вечер перед уходом от нас в той же передней уже Роберт сунул мне в руку записку, в которой прощался со мной навсегда и намекал на возможность самоубийства. Почему навсегда? Почему самоубийство? Я в слезах протянула маме эту записку. Мама, не отрываясь от штопки, искоса взглянула на нее и вынесла приговор: «Не плачь. Завтра не придет. Придет послезавтра». И как же я удивилась, когда Роберт пришел именно послезавтра и, как ни в чем не бывало, уселся на тахту играть вместе со всеми в чепуху.