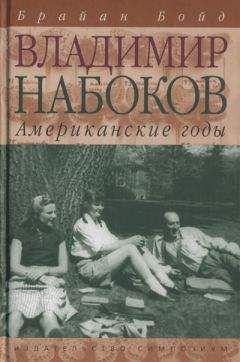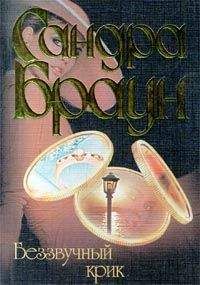В конце главы Набоков приезжает в Вайнделл — в тот день, когда Пнин предположительно покидает его. Хотя Набоков фактически и не занимает места Пнина, и даже предлагает ему новую должность, выглядит все так, будто он едва ли не вытесняет последнего, его профессиональный взлет составляет контраст падению несчастного Пнина. Набоков останавливается на ночь в доме Джека Кокерелла, заведующего английским отделением и самого неутомимого имитатора Пнина в кампусе. Чуть ранее в книге Пнин даже становится невольным свидетелем перевоплощения Кокерелла, едва ли не зрителем, появляясь на сцене в разгар разыгрываемой Кокереллом пьески. Теперь Кокерелл потчует Набокова антологией Пнинианы.
Я устал и не был особенно склонен развлекаться застольным спектаклем, однако должен признать, что Джек Кокерелл изображал Пнина в совершенстве. Его хватило чуть не на два часа, он показал мне все — Пнина на лекции, Пнина за едой, Пнина, строящего глазки студентке, Пнина, излагающего эпопею с электрическим вентилятором, который он неосмотрительно водрузил на стеклянную полку над ванной, в которую тот едва не слетел, потрясенный собственными вибрациями.
К полуночи пьяный Кокерелл объявляет, что Пнин наверняка еще не покинул города, и предлагает позвонить ему. На другом конце провода никто не отзывается, однако телефон еще не отключен. Набоков в свой черед тоже «по-дурацки рвался сказать что-то дружеское моему доброму Тимофей Палычу, так что спустя несколько времени тоже попробовал дозвониться». В конце концов Пнин поднимает трубку и неудачно пытается изменить голос, а затем прерывает разговор. Кокерелл предлагает отправиться к дому Пнина и спеть ему серенаду. Но тут вмешивается его жена, «и после вечера, почему-то оставившего в моей душе подобие дрянного привкуса во рту, мы отправились спать». Глава завершается объявлением, которое Кокерелл делает на следующий день за завтраком: «А теперь… я расскажу вам о том, как Пнин, взойдя в Кремоне на сцену Женского клуба, обнаружил, что привез не ту лекцию».
Этот малосимпатичный ход событий ставит нас перед лицом нашего соучастия в отношении к Пнину как к источнику развлечения. На последней странице романа Пнин на своей нелепой машине покидает Вайнделл, в сопровождении паршивой собачонки, с которой он подружился. Он вызывает восхищение своей гордой независимостью, тогда как обходительный Набоков выглядит бесхребетным сообщником Кокерелла в его почти маниакальной, подлой травле. Мы же, в свою очередь, оказываемся сообщниками рассказчика, который, с того мгновения, как он в начале романа пообещал нам рассказать историю злоключений Пнина по дороге в Кремону, только и делал, что описывал его несчастья.
Набоков — автор, а не рассказчик — подводит нас к мысли о том, насколько непрочные образы создаем мы из очередного искажения правды, поступаясь при этом своей человечностью. Не желая ничего видеть за внешностью Пнина, его неуклюжестью, его ломаным английским, большинство обитателей Вайнделлского колледжа не способны оценить высоты принципов Пнина, они не желают понять, что его странная манера выражаться есть ключ не столько к его врожденной нелепости, сколько к мучениям и неурядицам жизни на чужбине. Такие люди, как Кокерелл или Владимир Набоков (рассказчик), внимающий Кокереллу, — или мы, с нетерпением ждущие от рассказчика описания новых комических промахов Пнина, — уподобляются жестокому графу и графине, отвратительно смакующим несчастье Дон Кихота.
Умение видеть в других лишь объекты насмешки и повод для забавы — является, по мнению Набокова, свидетельством скудости воображения, которая может иметь катастрофические последствия. На вечеринке у Пнина доктор Гаген рассказывает очередной анекдот о жене профессора Идельсона, ничем не отличающийся от развеселых историй о нелепом иностранце профессоре Пнине. Лоренс Клементс отказывается слушать попахивающий антисемитизмом рассказ Гагена, а Пнин с отвращением отмахивается от него, говоря: «Я слышал этот же самый анекдот лет тридцать пять назад в Одессе и даже тогда не смог понять, что в нем смешного»[105]. На этом уровне восприятие человека в качестве юмористического стереотипа и нежелание увидеть за ним ранимую личность могут — для тех, кто не склонен задумываться, — показаться вполне безобидными. Однако нравственной сердцевиной романа становится Мира Белочкина, убитая в Бухенвальде лишь потому, что она была еврейкой и, следовательно, недочеловеком для тех, кому тысячелетие глумливого пренебрежения к подобным ей людям представлялось нормальным. Когда Пнин задумывается над противоречивыми сведениями о ее последних днях: «Только одно можно было сказать наверное: слишком слабую, чтобы работать (хотя еще улыбавшуюся и находившую силы помогать другим еврейкам), ее отобрали для умерщвления и сожгли всего через несколько дней после прибытия в Бухенвальд», Мира становится представительницей человечества в его лучшей и наиболее уязвимой ипостаси.
На определенном уровне «Пнин» походит лишь на эскизный портрет неудачника, каждым своим движением вызывающего смех. Но неожиданными сюрпризами последней главы Набоков взрывает роман, выставляя нам напоказ наши собственные реакции на положение Пнина: наши представления о других людях, наши насмешки над ними, наше сочувствие к их страданиям. На всем своем протяжении роман так или иначе затрагивает проблему страдания. Пнин рассказывает Гагену о своих планах насчет учебного курса, посвященного боли и страданию в истории человечества: «О Тирании. О Сапоге. О Николае Первом. Обо всех предтечах современных жестокостей. Гаген, когда мы говорим о несправедливости, мы забываем об армянской резне, о пытках, выдуманных в Тибете, о колонистах в Африке… История человека — это история боли!»
Как-то раз, когда Владимир Набоков, в качестве персонажа последней главы, посетил в 1930-х Париж и встретился с другими эмигрантами в гостях у одного из них, Пнин предупредил друзей, чтобы они не верили ни одному его слову: «Он же все сочиняет. Он как-то выдумал, будто мы с ним в России учились в одном классе и сдували друг у друга на экзаменах. Он ужасный выдумщик». Любопытно, что Пнин, похоже, говорит здесь о каких-то очень точных воспоминаниях Набокова о его, Пнина, юности, некогда ему пересказанных, причем сам выпад Пнина заставляет нас усомниться в истинности и его, и набоковских слов. Позднее, в Вайнделле, двадцать лет спустя, Набоков и вовсе не встречается с Пниным. Совершая на следующий день после прибытия утреннюю прогулку, он видит, как Пнин уезжает из Вайнделла — отправляясь в новый день, в новое путешествие, в новую жизнь, словно бы спасаясь бегством от кого-то, кто всегда тревожил его, так как знал или делал вид, что знает слишком многое.