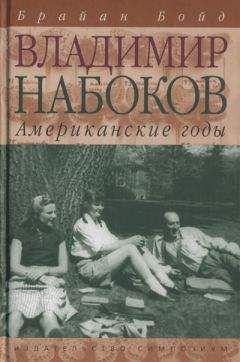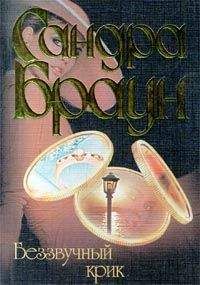Однако Набоков не знал Пнина в Вайнделле. Откуда же взялась его осведомленность обо всех здешних приключениях Пнина? Предположительно, из рассказов таких людей, как Кокерелл. Когда Набоков возвращается после прогулки, Кокерелл собирается попотчевать его историей о том, как Пнин, собираясь выступить в Женском клубе Кремоны, вдруг обнаруживает, что взял с собой не ту лекцию. Но ведь это не та кремонская история, которую мы узнаем в начале книги. Там Пнин впихивает в карман все три текста (две лекции и одну студенческую работу), чтобы наверняка иметь при себе то, что ему понадобится. Первая глава обрывается, не дойдя до выступления Пнина, но рассказчик откровенно говорит, что предпочел бы закончить ее на роковой ноте, если бы только это было возможно. Так что история Кокерелла, скорее всего, выдумана, — и тогда откуда же рассказчику известно, что произошло в Кремоне на самом деле?
По большей части кремонская история могла быть восстановлена по юмористическим рассказам Пнина о своих злоключениях. Что, разумеется, не относится самое малое к одному фрагменту: подробно описанным мыслям Пнина во время сердечного приступа.
Рассказ о приступе начинается так:
Не знаю, отмечал ли уже кто-либо, что главная характеристика жизни — это отъединенность? Не облекай нас тонкая пленка плоти, мы бы погибли. Человек существует, лишь пока он отделен от своего окружения. Череп — это шлем космического скитальца. Сиди внутри, иначе погибнешь. Смерть — разоблачение, смерть — причащение. Слиться с ландшафтом — дело, может быть, и приятное, однако тут-то и конец нежному эго.
Отъединенность является основной характеристикой жизни, а отъединенность человека от человека и сознания от мира образует главную тему «Пнина». Как писал в иной связи Набоков, существует «непреодолимая разница между эго и не-эго»2. Известный нам мир остается вне пределов сознания. Поэтому неудивительно, что Пнин, как и любой из нас, совершает ошибки. Построенный так, что он постепенно продвигается в направлении истины, этот роман есть роман об ошибках: комичных ошибках, которые постоянно совершает Пнин (применительно к словам, к библиотечной карточке, к стиральной машине, к расписанию поездов), и ошибках куда более серьезных, которые мы допускаем в отношении других людей (вроде тех, какие практически все допускают в отношении Пнина).
Как раз из-за этой отъединенности сознания друг Пнина «Владимир Набоков», разумеется, не может знать подробностей его детской болезни, рассказ о которой следует в Главе 1 за рассуждением об отъединенности. Или нам остается предположить, что рассказчик просто состряпал несколько правдоподобных небылиц о внутренней жизни своего знакомого — но и в этом случае подлинный, пронзительный Пнин, Пнин, который все еще беспокоится о Лизе, и вспоминает Миру, и видит одни с Виктором сны, это лишь не заслуживающая доверия подделка, и книга вообще лишается интереса, — или мы признаем, что Владимир Набоков, рассказчик, друг Пнина и любовник Лизы, представляет собой выдумку подлинного Набокова, который, как автор, обладает властью создавать людей из самого себя и из окружающего мира.
Иными словами, подлинный Пнин, его мучительное внутреннее «я», может существовать, только если мы согласимся с вымышленностью всей этой истории. Роман начинается во вполне «реальном» мире и, казалось бы, все больше врастает в реальность, пока вдруг Владимир Набоков не оказывается знакомым Пнина. В конце концов нам приходится признать, что Пнин может существовать лишь как создание, чью внутреннюю сущность мы способны понимать и оценивать только до тех пор, пока мы сознаем, что он вымышлен.
В «Буре» Шекспир передает Просперо собственную власть над миром пьесы, делая своего героя совершенно нереальным, но в то же время позволяя ему олицетворять собою множество образов: заблудшего грешника, обманутого брата, изгнанного правителя, архиколонизатора, драматурга, персонификацию и кульминацию человеческой культуры, наконец, Всемогущего Бога. В «Пнине» Набоков действует противоположным образом, выставляя себя не более чем персонажем в мире, до краев наполненном привычной реальностью. Странно, но и это тоже образует все новые, еще более высокие уровни смысла.
На первом уровне Набоков внушает нам мысль, что в этой жизни невозможно преодолеть неведения о происходящем внутри другого человека. Обнаруживая перед нами контраст между Набоковым, находящимся в одной плоскости с Пниным, и Набоковым, пребывающим за пределами этой плоскости, способным видеть Пнина в мельчайших подробностях, он подчеркивает, что только если бы мы могли перешагнуть в иную плоскость бытия, только если бы мы могли преодолеть отъединенность, которая характеризует наше смертное существование, нам удалось бы узнать подлинную цену другой жизни. Но и на этом он не останавливается.
Глава 1 предлагает нам посмеяться над неудачами Пнина, накапливающимися во время его несчастливой поездки в Кремону: превосходный материал для Кокерелла. Потом мы неожиданно заглядываем в укромный уголок души Пнина, куда ни Кокерелл, ни Набоков-рассказчик никогда не могли бы проникнуть, и нам впервые приходится столкнуться с подлинными страданиями Пнина. В разгар сердечного приступа Пнин вспоминает детское недомогание, озноб в ребрах, острую резь в глазах и пораженное горячкой сознание, отчаянно пытающееся разгадать две загадки. Что за предмет держит в передних лапках белка на деревянной ширме его спальни? Орех? Сосновую шишку?
Он решил попробовать разгадать эту сумрачную тайну, но жар гудел в голове, потопляя любое усилие в боязни и боли. Еще пуще угнетало его боренье с обоями… Здравый смысл подсказывал, что если злокозненный художник — губитель рассудка и друг горячки — упрятывал ключ к узору с таким омерзительным тщанием, то ключ этот должен быть так же бесценен, как самая жизнь, и, найденный, он возвратит Тимофею Пнину его повседневное здравие и повседневный мир.
Пнин чувствует, что обязан распутать этот узор. И мы тоже, потому что, как заметили многие читатели, беличий мотив проходит через весь роман3.
Когда приступ переносит Пнина в прошлое, он вспоминает доктора Якова Белочкина, педиатра, который лечил его в детстве от горячки. Белочкин — отец Миры Белочкиной, возлюбленной юного Пнина, женщины, чья смерть в Бухенвальде более настоятельно, нежели что-либо иное в романе, ставит вопрос: является ли наш мир миром бессмысленного страдания? Не может быть случайностью, что фамилия Белочкин происходит от уменьшительной формы русского слова «белка».