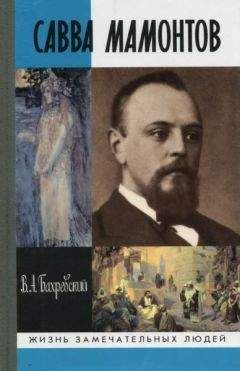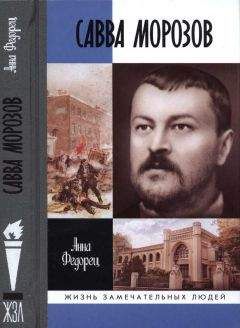— От безверия.
— А я вам так скажу. — Потер ладонью лоб и смотрел на ладонь, будто считывая с нее. — Безверия не остановить. Гора рухнула, мы не чувствуем катастрофы только потому, что летим вместе с горою… Страшный удар еще впереди, боль, беспамятство… — Быстро посмотрел на Елизавету Григорьевну и тотчас опустил глаза. — Я всю мою жизнь отдам прославлению святой нашей веры… Ни на что не надеясь.
— Ваш «Пустынник» — молитва.
— Вы поняли! — вырвалось у Михаила Васильевича. — Я боялся, что это поймут в Петербурге: Мясоедов, Лемох, Ге… Ярошенко это понял, но сказал только мне, и мы стали друзьями.
— Но разве это возможно — нести свет и желать, чтобы его не видели?
— Если бы увидели сразу, я получил бы, по крайней мере, десять черных шаров. У нас ограждают искусство от Бога с такою же ревностью, с какой миссионеры крестят в Африке негров…
— А Васнецов?
— Васнецов — это Симеон Столпник.
— Надо таким, как он, как вы, быть вместе… Я радуюсь за сына моего, за Андрея. Он после Училища собирается поработать в Киевском соборе. Андрей — архитектор, но Прахов предлагает ему написать орнаменты… Михаил Васильевич, я вижу, вы поработать хотите. Я оставляю вас, но прошу отобедать с нами.
Она ушла. И земля Радонежья тотчас придвинулась к нему. И он, робея, по-ученически набрал на кисть краски и замер, не смея тронуть белого.
8
12 сентября Михаил Васильевич Нестеров писал Бруни: «Живя в деревне, в двух верстах от Абрамцева, я часто бываю там, иногда Елизавета Григорьевна Мамонтова берет книгу и читает что-либо, выбор обыкновенно бывает удачный, и слушаешь с неподдельным удовольствием. Сюжет своей картины я Вам, кажется, говорил еще в Италии: это „Видение отроку Варфоломею“ (преп. Сергию). Интерес картины заключаться должен в возможной поэтичности и простоте трактовки ее. Достигну ли я этих, по-моему, главных и совершенно необходимых условий картины, скажет будущее. Эскиз же пока меня удовлетворяет. А также нравится он и тем, кто видел его, в том числе и Е. Г. Мамонтовой, которая в данном случае может быть довольно надежным судьей. Серый, осенний день, и листики молодых рябинок и берез, раскинувшихся по откосу сжатого поля, далеко видно кругом, видна и речка, видно и соседние деревни. За лесом выглядывает погост — на нем благовестят к вечерне… Уже давно Варфоломей ходит по полю. Отец послал его искать лошадей. Он устал, хотел присесть у дуба, подходит поближе, около него стоит благообразный старец. Он молится. После молитвы старец любовно подозвал Варфоломея к себе, благословил его, утешил… Пейзаж и фигура Варфоломея почти готовы. Еще проживу здесь недели три, и думаю, что за это время успею сделать все этюды, нужные к картине…»
В начале октября Михаил Васильевич из Хотькова переселился в Комино, написал эскиз маслом и еще раз переехал, в Митино. Нашел просторный дом, поставил холст, начал прорисовку углем. Елизавета Григорьевна предложила жилье и мастерскую в Абрамцеве, но он, страстно желая быть ближе к Мамонтовым, поработать там, где писали Репин и Васнецов, с детским горьким упрямством противился желаниям и здравому смыслу. Да и занят он был поиском «отрока». Бродил по деревням, приглядываясь к детям, и не находил, кого искал. Встречались мальчишки худенькие, ласковые, но не было того, кто стоял перед глазами.
Шел он как-то через Комякино, шел быстро, здешних мальчишек всех пересмотрел, торопился в дальние деревеньки. Да и стал, как громом пораженный. У колодца, опершись плечиком на журавель, смотрела на ослабшее осеннее солнышко стриженая, тоненькая, как былинка, девочка. Глаза большие, удивленные. Лицо прозрачное, под кожей синие жилки видны, рот яркий, дыхание горячечное… Возле рта бело, и все лицо от этой белизны и от яркого цвета губ — болезненное, скорбное…
Перевел взгляд на руки. — Боже мой, то, что искал: в кистях тонкие, пальцы сухие, длинные.
«Я замер, как перед видением, — писал Нестеров много лет спустя. — Я нашел то, что грезилось мне. Это был „документ“ моих грез. Я остановил девочку, спросил, где она живет, узнал, что она „комякинская“, что она дочь Марьи, что изба их вторая с края, что зовут ее так-то, что она долго болела грудью, что недавно встала и идет туда-то».
Ах, художник, художник! Не оставил нам имени своей «натуры». А «натура» воистину драгоценная, вся Россия узнала в «отроке» юность святого Сергия.
Елизавета Григорьевна приезжала смотреть эскиз, настойчиво звала в Абрамцево. Он согласился, но вдруг собрался в единочасье и сбежал в родимую Уфу.
20 декабря Михаил Васильевич прислал Елизавете Григорьевне покаянное письмо. «До сего времени меня не оставляет тяжелая мысль, что, не воспользовавшись Вашим более чем любезным предложением переехать в Абрамцево, я навлек на себя Ваше нерасположение… Словом, если оставалось в Вас хотя отдаленное чувство неприязни ко мне, то прошу меня простить. Моя поездка в Уфу мало дала мне утешения, приехал я больной, пресловутая инфлюэнца заставила меня неделю вылежать в постели, и я, слабый еще, принялся за картину, но, верно, в недобрый час… У меня закружилась голова, и я, упав с подставки, на которой сидел, прорвал свою картину. Начались для меня и окружающих тяжелые дни ожидания, когда г-н Мо поспешит выслать мне новый холст. Холст пришел, и я, как голодный, кинулся к картине. Три недели я буквально работал с утра до вечера и теперь картина замазана вся, осталось ее довести до возможного для меня совершенства в разработке частностей, и я, как только будет возможность везти её, сейчас же уеду из Уфы, с тем, чтобы в Москве кончить её в раме, и прошу Вас еще раз, Елизавета Григорьевна, не отказаться первой высказать свое мнение о моем „Отроке Варфоломее“».
Михаила Васильевича била лихорадка, когда думал, сколько еще нужно сделать непременно! Всякая былинка да изумит. Не вдруг, но бросится в глаза синий цветок в стерне, а там еще, еще. Кто будет вглядываться в картину, как в звездное небо, тот увидит саму бесконечность. И он творил эту бесконечность: цветы, листы, травинки. Написал крошечную сосенку, деревце-дитя, едва поднявшуюся над травой, между старцем и Варфоломеем. Не забыл капустное поле, только поместил его на дальнем плане. Обрадовал себя найденной полоской серебра на воде, через темное отражение. Прорисовал тонкую веточку на дубе, на ней — лист. Убавил пустоты, убрал нимб над головой Варфоломея. Отвороты богатых боярских сапожек насытил красным.
Работал горячечно, его любимое слово. И не стало у него никакого терпения, так хотелось в Москву, показать Варфоломея.
Елизавета Григорьевна вошла в мастерскую, остановилась, замершая. Смотрела молча, не переводя дыхания.