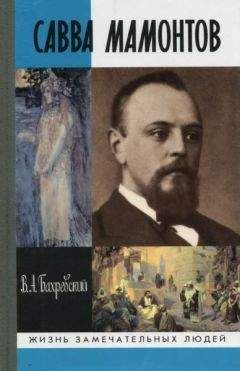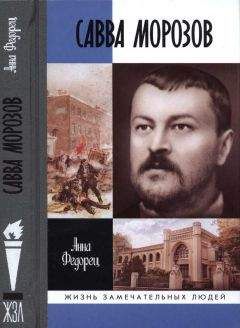Шел к «Варфоломею» совершенно уже раздавленный неверием.
— Вот и Нестеров! — увидел его Ярошенко и представил своего собеседника: — Адриан Викторович Прахов, профессор, распорядитель работ в Киевском Владимирском соборе. Адриан Викторович ждал вас.
— У меня к вам предложение, — сказал Прахов, взглядывая через сильные очки не без удивления и не без радости. — Вы так молоды! И так глубоко берете… Я хочу предложить вам работу в соборе.
— Но там же Васнецов!
— Работы еще очень много… А вы тот, кто очень нужен Владимирскому собору. Я это понял с первого взгляда на вашу картину. Она полна русского чувства, можно и сильнее сказать — русской любви… С ответом не торопитесь. Но я вижу, я знаю — вы необходимы собору.
Ярошенко и Прахов простились — они ехали к Репину, и Михаил Васильевич, оставшись наедине со своей радостью, никак не мог успокоить дрожи, которая трясла его изнутри. Он стоял перед какой-то картиной, не видя ее… Решиться на росписи в соборе — отказать множеству своих замыслов, но это тот самый заказ, что родил Микеланджело, Рафаэля, чудо новгородских и псковских церквей, ярославского храма Ильи Пророка!..
Еще через полчаса Михаил Васильевич встретился с Третьяковым. И был сражен. Вниманием, отеческой заботой. Он выдал ему 150 рублей (Нестеров сам назвал эту цифру) и внимательно проследил за тем, чтобы деньги были уложены в бумажник и надежно спрятаны.
11 марта 1890 года Михаил Васильевич писал родным: «В пятницу я был у Третьякова, принял он меня очень любезно, но денег дал лишь половину (тысячу рублей. — В. Б.)… другую (заплатит. — В. Б.) тогда, когда вещь вернется из провинции. Показывал Третьякову наброски будущей картины. Композиция ему понравилась, понравился и дух картины, после долгой беседы он проводил меня, поцеловавшись… Между прочим, он, как и Поленов, советовал ехать в Киев, но не утруждать себя работой и поберечь силы на картину».
15 марта 1890 года Нестеров был в Киеве.
10
Савве Ивановичу Мамонтову Нестеров не был близок, он души не чаял в Костиньке Коровине — жизнелюбе и шалопае. У Коровина душа нараспашку, умен, весел, с ним легко. Нестеров — ходячий обнаженный нерв. Хохоча сам и других забавляя, не расстается с неведомой трагедией. О первородном грехе, что ли, все время помнит?! Печали и радости от матери родной скроет. Душа женственная, настороженная, чувствующая обиду за сто верст. А Савва-то Иванович, заматерев, приобрел замашки вельможные. Однажды срезал Врубеля, потянувшегося за бутылкой дорогого вина: «Это не про твою честь! С тебя довольно чего попроще!» И гордый, но пьющий Врубель пропустил мимо ушей безобразную реплику покровителя… Нестеров такого даже подумать о себе не позволил бы. Неуютный был человек Михаил Васильевич. Иное дело Врубель. Он появился в доме Мамонтовых на год позже Нестерова, но тотчас стал своим человеком и на Садово-Спасской, и в Абрамцеве. Нестеров тоже жил в Абрамцеве, а вот в московском доме Мамонтовых он — редкий гость. Письма писал одной Елизавете Григорьевне. Если же поминал Савву Ивановича, то с иронией, с оттенком неодобрительности. В 1928 году, побывав в Абрамцеве, Нестеров писал Дурылину: «Там все по иному, чем было еще недавно. Природа же все так же прекрасна, как и сорок лет назад… Вспомнился и прекрасный образ Верушки, и ее благочестивой, без ханжества матери. И сам Савва великолепный, шуты и карлы, его окружавшие…»
Этими «шутами и карлами» много сказано. От того дара, каким владел Нестеров, Савву Ивановича ломало и корчило, как ломает и корчит колдуна перед святым крестом.
Другое дело Елизавета Григорьевна. О всех творческих задумках Михаил Васильевич сообщал ей первой, ожидая совета, духовной поддержки. «Непременно буду в Абрамцеве, — писал он из Кисловодска, от Ярошенко, — за последние месяцы много набралось такого, что поговорить и посоветоваться с Вами, Елизавета Григорьевна, есть необходимость». Он радуется, что ее сын станет товарищем по работе: «На днях отсюда (из Киева. — В. Б.) уезжает Андрей Саввич, с которым теперь у меня общие интересы по собору, так как на хорах орнаменты поручены ему». С Дрюшей ему легко, и он спешит сообщить Елизавете Григорьевне: «Андрей Саввич передал мне желание Ваше иметь снимок с моего „Рождества“, а также и Ваш отзыв о нем, который меня немало обрадовал. (Интересно, как Вы найдете оригинал)…
Я очень рад, что судьба свела в работах по собору с Андреем Саввичем. Его орнаменты мне крайне симпатичны, и приятно то мирное соглашение, которое до сих пор существует между нами в этом деле. Я в отношении Андрея Саввича испытываю те же благодарные чувства, какие бывают у рисовальщика к талантливому граверу, зная, что таковой не только не испортит рисунка, но часто придаст ему нечто совершенное».
Кончив картину «Юность преподобного Сергия Радонежского», Нестеров опять же обращается к Елизавете Григорьевне: «Хотелось бы, чтобы Вы… как и раньше было, посмотрели ее одной из первых, и если она окажется удовлетворительной, то я думаю послать ее на Передвижную выставку».
Для молодого художника одобрение Елизаветы Григорьевны не единожды было спасительным. Художников убивают по многу раз, а живы они молитвами и утешениями своих почитателей.
В художническом окружении Мамонтова в конце 80-х — начале 90-х годов происходят заметные изменения, оно теряет черты некоего единства и консолидируется вокруг двух центров — одни тяготеют к Савве Ивановичу, другие — к Елизавете Григорьевне. Васнецов, Нестеров, Андрей Саввич, духовные друзья Елизаветы Григорьевны, — на лесах Владимирского собора. А друзья Саввы Ивановича? Врубель, покинув Киев, церковную живопись, творит «Демона», Антокольский — «Сатану», а новобранец Шаляпин — своего Мефистофеля. Удивительные совпадения и контрасты.
Духовные устремления Елизаветы Григорьевны и Саввы Ивановича не просто разошлись, они мчатся друг от друга, как разбегающиеся по Вселенной галактики.
Семья не распалась не только потому, что детей было жалко. Развестись — ославить подрастающих девочек, уже невест. Для Елизаветы Григорьевны ее слово «да» под венцом — обет Богу. Обманутая, оскорбленная, она смиряется и несет свой крест, не жалуясь, не протестуя… Теряя мужа, Елизавета Григорьевна не знала предательства старых друзей дома. Для Поленова, Антокольского, для Васнецовых, Неврева, Остроухова, для Серова, для отдалившегося Репина — Абрамцево и дом на Садово-Спасской — это не Савва Иванович, прежде всего это — Савва Иванович и Елизавета Григорьевна.
Что же до личных заслуг перед музами отечества, как, чем вымерить, выделить долю того и другого?