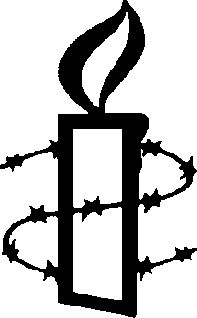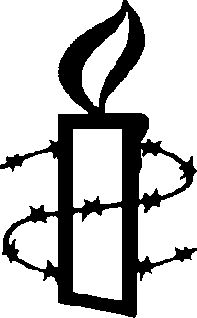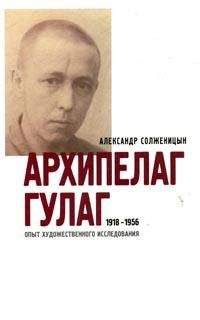Рядом со мной умирал Вася. Это был 20-летний мальчик, и срок у него был тоже 20 лет. За какие преступления дали Васе 20 лет каторги? Кого он убил или предал? В углу нашей палаты лежал 72-летний старик-колхозник, зарубивший в пьяном виде свою жену. Ему дали два года, а Васе двадцать за то, что он подметал пол у немцев в полиции. Может быть, это была «государственная мудрость», но я не мог не ненавидеть и презирать государство, которое защищало себя таким образом. Два года или двадцать — оказалось все равно, и оба они, старый и малый, умерли в ту зиму в 5 корпусе. Вася умер от горловой скоротечной чахотки. При этом он до последней минуты не понимал опасности своего положения и даже не знал, чем болен. Доктор велел кормить его из отдельной посуды. Это обидело Васю. — «Вот, — сказал он, — когда хватились: когда я уже выздоравливаю!» И умирая, он все был уверен, что выздоравливает, и не понимал, почему это больные в корпусе от него отворачиваются, не позволяют ему садиться на свои койки и ничего не одалживают из своих вещей. Он думал, что они им брезгают, знать его не хотят. Вася, с горловой чахоткой и 20 годами каторги, был беспомощный и неразвитый, ничего не понимавший в жизни мальчик, попавший с миллионами других под колеса жизни. — «Один человек в корпусе — ты, Марголин!» — сказал он мне жалобно, обиженный всеобщим бойкотом. Я его не бойкотировал. Я не принимал никаких мер предосторожности, пил из его кружки и сидел на его постели. Я не боялся заразы, и смерть не пугала меня. Наоборот. Смерть, на худой конец, была путем избавления от рабства, выходом из тупика, куда зашла моя жизнь.
Недоумение овладело Васей в последние дни, когда наступила катастрофа. — «Плохо!» — сказал он мне, наконец, шопотом, и я увидел в его глазах беспредельное изумление. Когда Вася начал хрипеть и задыхаться, уже было известно в палате, кто ляжет на его койку. Он еще лежал в агонии, а уже начался обычный грабеж умирающего. Растащили, подобрали со столика все его жалкие вещи. Санитар забрал хлеб, нетронутый за 2 последние дня. Ничего не осталось — и когда уже вынесли его — я съел его последнюю, простывшую с вечера кашу на донышке глиняной миски и взял себе щербатую железную кружку, которой мы пользовались вместе.
Алиментарная дистрофия чаще всего приводила к водянке. Сперва чудовищно распухали ноги. Потом живот раздувался, как у беременной женщины. Все тело наливалось водой, заплывали глаза, а когда вода подступала к сердцу, человек умирал. В палате было полдюжины больных, которым периодически выкачивали воду из живота. Больной садился на табурет среди палаты, ему прокалывали живот и вставляли трубку, из которой лилась вода. Она лилась долго в подставленный таз, а потом сестра считала, сколько литров воды вышло. У некоторых выкачивали по 15 литров. После этого наступало облегчение, и больной мог недели две лежать в ожидании следующей операции выкачивания. Смерть в этом состоянии была неизбежна.
Ни одна из смертей не произвела такого впечатления на людей в корпусе, как смерть одного литовца, который месяца четыре пролежал с нами. Литовцев вообще было много на перпункте. Тут встретились две волны массового выселения из Литвы: в 1941 году и в 1944-м — перед войной и после изгнания немцев и повторного захвата страны. Во всех корпусах котласского перпункта умирали литовцы. Этот был — железнодорожник из-под Каунаса, человек средних лет, очень солидный, производивший впечатление мирного обывателя. Он еще был довольно крепок, и во время санобработки вызывался добровольно мыть больных. Он был неразговорчив крайне и держался с флегматическим достоинством человека, знающего себе цену. По ночам иногда он просыпался, садился на койке и смотрел пред собой как каменный по часу, потом сходил к печке закурить (днем курение в корпусе строго преследовалось нашим доктором) и без слова возвращался на место. Смерть этого человека была для нас неожиданностью. Он опух как-то сразу, умер стремительно, в несколько дней. Умирал он мучительно и без всякого достоинства: кричал высоким детским голосом, которого никто от него не ожидал слышать, и наполнил всю палату своей агонией. Другие умолкали пред смертью, у этого произошло обратное: молчал всю зиму, уходил в себя, а в последние часы — поднял шум. Весь день он громко бредил, выкрикивал и пел. Он пел пред смертью, он умирал с песнями. До сих пор звучит в моих ушах этот крик его:
— Lietuvata mana! Lietuvata mana!
Литовцы в корпусе сказали мне, что это значит: «Литва моя, Литва моя!» На всех нас произвело впечатление, что этот человек так тосковал, умирая, по родной стране — не один из нас вспомнил, что есть и у него родина, которой, может быть, не суждено ему увидеть.
На первой койке при входе в палату — против койки Попова — лежал отец Серафим. Ему было за 70 лет, он выглядел как библейский патриарх, с широкой белой бородой и длинными седыми волосами до плеч, которые с одной стороны были заплетены в косичку, чтоб не мешали. Отец Серафим был архимандрит и настоятель одной из московских церквей. Должны быть люди в Москве, которые знают о нем больше моего. Он, очевидно, не сумел ужиться с властью и был отправлен в лагерь уже при новом курсе на сближение с церковью. На следствии его спросили — почему он молился за царя до революции, а за членов Политбюро не молится? Отец Серафим ответил, что готов молиться за членов Политбюро, когда они будут ходить в церковь.
Дважды в день, утром и вечером подымался архимандрит и молился, отвернувшись к стене, с поясными поклонами, а глядя на него стал молиться и наш дурачок Алеша. Но Алеше скоро надоело молиться. Отец Серафим молился один за всех, а когда пришла Пасха, прислали ему посылку с пасхальным печеньем — сладкой бабкой. Он разделил ее между всеми лежавшими в палате, и каждый получил по крошечному кусочку «свяченого». Больные подходили благодарить, и я тоже поблагодарил отца Серафима. При этой оказии я с ним побеседовал о Святой Земле. Отец Серафим посетил Палестину в 1902 году, а перед тем побывал на Афоне, в Греции. Он помнил эту страну сквозь благочестивый туман — святые места, монастыри, церкви, осликов на горных тропах, рыбу, которой угостили его на берегу Генисаретского озера. Я помнил ее иначе: асфальт и бензин, бетон и темную зелень плантаций, тракторы и электростанции.
Золотой крестик был у отца Серафима. Этот крестик дал ему доктор. А доктору передал его, умирая, один из заключенных. Этот заключенный тоже не принес с собой крестика в лагерь, а снял его с шеи своего умирающего соседа. Таким образом, золотой крестик был собственностью всего корпуса. Носил его наиболее достойный, а хранил его доктор, который сам был евреем и человеком непричастным, но выбран был судьбой, чтобы передавать его из рук в руки. Этот крестик был — золотое звено невидимой цепи. Отец Серафим не был его последним носителем, а получил его на время — на очень короткое время. Не знаю, кто носит его теперь. Архимандрит умер осенью 1945 года.