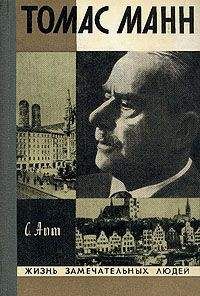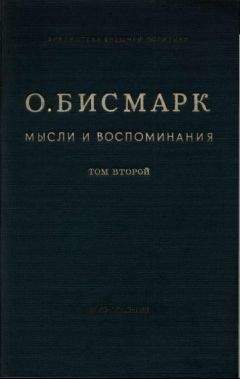Сдержанность и настороженность в отношении Томаса Манна со стороны западногерманских властей, связанные, вероятно, прежде всего с его упорным нежеланием игнорировать государство к востоку от Эльбы, так и не сменились до самой смерти писателя другим, более теплым и более, ввиду его заслуг перед немецкой культурой, естественным отношением к нему. Он это прекрасно чувствовал, что явствует, например, из его комментария к приветствию, полученному им по поводу своего восьмидесятилетия, через три недели после второго посещения Веймара, где он повторил только что произнесенную в Штутгарте речь о Шиллере — к приветствию от западно-германского должностного лица. «...Надо сказать, — писал он Гессе в июне 1955 года, — что пришла и сдержанная телеграмма от федеративного министра внутренних дел Шредера. Наверно, он добился разрешения на это, серьезно побеседовав с Аденауэром».
Но не столько внешние приметы окончания жизненного пути прославленного писателя имели мы в виду, когда заговорили о «подведении итогов», не столько все эти заключительные свидетельства сочувственного или неприязненного внимания мира к его персоне, сколько его собственное умонастроение описываемой поры, сколько его собственные поиски подобного «окончательно последнему адресу» внутреннего прибежища. Ступив после шестнадцатилетнего перерыва на немецкую землю, он произнес речь, которую назвал «обращением в гётевский год». Гёте был предметом ее лишь во вторую очередь, в первую очередь предметом ее был сам Томас Манн. На этой речи 1949 года стоит остановиться подробнее, потому что в ней, кажется нам, есть некий сгусток итоговых его размышлений о себе, о своем искусстве, о своем месте в мире, размышлений, к которым он отныне и уже до смерти возвращается с самых разных сторон — и когда перечитывает Чехова или Шиллера, чтобы о них написать, и когда у него просят совета, «как быть», его корреспонденты, и когда он оценивает деятельность литературных своих современников.
Он начал эту речь с признания, что было бы неестественно, если бы он, приехав после столь долгой разлуки на родину, просто прочитал здесь, как уже читал в Америке, Англии, Швеции и Швейцарии, доклад о Гёте и не попытался прежде найти слова, «которые проложили бы мост через время, связали прошлое с настоящим, воспрепятствовали отчужденности, примирили бы разнородности пережитого». Он рассказал затем о своей жизни в эмиграции, рассказал, как «страдал Германией», коротко изложив соотечественникам все то, что читателям этой книги уже известно. Потом он перешел к причинам, по которым целых четыре года после окончания войны откладывал свой приезд. «Я знаю, что эмигрант в Германии котируется невысоко, — никогда еще он высоко не котировался в стране, терзаемой политическими авантюрами. Понятно, что это отрицательное отношение ко всякому, кто отмежевался, немало способствовало робости, ...удерживавшей меня от встречи с Германией. Есть и другие объяснения этой робости. Медлишь вновь перейти границу страны, которая долгие годы была для тебя кошмаром; от флага которой, видя его за границей, ты в ужасе отворачивался, страны, где твоим верным уделом, если бы тебя туда затащили, была бы страшная смерть. Такое действует долго, это не так-то легко вытравить из крови. Беспокойство об отчужденности, мысль о несходстве переживаний, позиций, страх, что говоришь уже на другом языке, что вам, внутри страны, и нам, вне ее, трудно понять друг друга, — все это усиливает робость, которая меня сковывала и которая не имела решительно ничего общего с непримиримостью, враждебной надменностью и недоброжелательством». После такого ретроспективного вступления он обратился к настоящему. «Безошибочное чувство говорит мне, — продолжал он, — что спор, который идет в Германии вокруг моих произведений и моей персоны... имеет куда большее значение, чем эта безучастная персона, эти всего лишь созданные трудом и, конечно, превзойденные другими произведения... Это уже не литературная критика, это распря между двумя идеями Германии, спор, где я служу только поводом, о духовном и нравственном будущем этой страны... Ну что ж, я не уклоняюсь ни от дружбы, ни от ненависти... Я не знаю никаких зон. Мой визит предназначен самой Германии. Кому и обеспечивать, кому и представлять единство Германии, как не независимому писателю, чья истинная родина... — свободный, не затронутый никакими оккупациями немецкий язык?.. Я не гожусь ни для роли проповедника покаяния, ни для роли пророка, который считает себя обладателем истины и указующе предписывает жизни, каким путем ей идти... Ни журналистам-интервьюерам, ни жаждущей знания молодежи я никаких истин открыть не могу...»
И еще раз подчеркнув, что не знает, «как все это разрешится, образуется, упорядочится, придет в равновесие — политическое, социальное, экономическое, вообще духовное, и притом без катастрофы и взрыва, которые были бы куда ужасней всего доселе испытанного и все же ничего б не решили, — как человеку вновь обрести благодать морального авторитета, веру, которая не оказалась бы на поверку вынужденным суеверием и убогой лазейкой» и добавив, что не страдать от этого неведенья «способны лишь тупость или циничное рыцарство конъюнктуры, хладнокровно использующие любую ситуацию в личных целях», он объяснил, что служит ему, Томасу Манну, опорой в жизни и почему, по его мнению, именно художнику пристало, воздавая ныне хвалу другому немецкому художнику, обращаться ко всей Германии. Вот это место его речи, столь характерное, как мы увидим, для всей его и меланхолической, и вместе радостной, как мы тоже увидим, поры «подведенья итогов».
«Я признаюсь откровенно: не будь прибежища фантазии, не будь их, игр и забав сочинительства, творчества, искусства, снова и снова после каждого окончания манящих дальше, к новым приключениям и новым волнующим попыткам, не будь их, соблазняющих ко все более настойчивому их продолжению, — я бы не знал, как жить, а не то что давать советы и поучать.
Но часто я думаю: у этих «очень серьезных игр» (выражение, примененное Гёте к «Фаусту») есть, может быть, одно более счастливое, сулящее больше помощи и более полезное жизни свойство, чем у каких бы то ни было назиданий, учений и вер. Благодарный профан и потребитель искусства пользуется для похвалы ему словом «красиво». Но художник, человек, знающий в нем толк, никогда не говорит «красиво», а говорит «хорошо». Он предпочитает это слово потому, что оно выражает профессиональную удачу, техническое мастерство трезвее и лучше. Но этим дело не ограничивается. Искусство фактически всегда и витает в двузначности этого слова «хорошо», в котором эстетическая сфера и сфера нравственная встречаются, смешиваются, становятся неразличимы, смысл которого идет дальше чисто эстетической сферы в сферу одобряемого вообще и еще выше, вплоть до высочайшей, повелительной идеи совершенства».