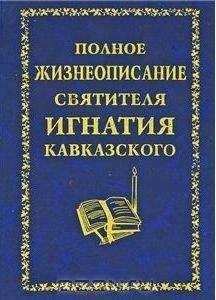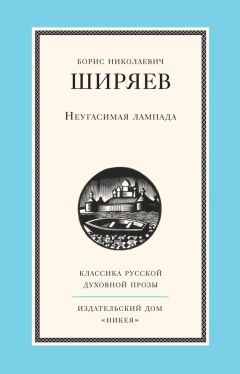Замечательное единство стиля еще больше подчеркивает этот дух семейственности. Захочет ли автор описать лицо, или шкатулку, взмах руки, или рисунок листвы, он это сделает все с той же язвительной точностью, используя все словарное богатство языка. Само собою разумеется, что никакой перевод не в состоянии передать яркость и сочность этого языка, изменчивого, богатого эпитетами. При переводе на французский язык, как бы близко к оригиналу мы ни подходили, колорит теряется.
Что же до метафор, которые часто встречаются в тексте, они имеют ту особенность, что всякий раз вводят картину, не имеющую прямого отношения к рассказу. Это – как бы прорыв в иное измерение. Маленькие зарисовки, окружающие большую картину. Так, говоря о вечере в доме губернатора, в начале романа Гоголь пишет:
«Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая клюшница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, подымающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостию старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски, где вразбитную, где густыми кучами».[352]
Внезапно удивленный читатель перенесен с домашней вечеринки у губернатора в незнакомый дом в деревне, в летний день, к какой-то старой ключнице, рубящей рафинад. Или же, когда автор сидит рядом с Чичиковым в бричке, направляющейся к дому Собакевича, неожиданное сравнение порождает в его мозгу образ балалаечника: «Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшее из окна почти в одно время два лица: женское в чепце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двухструнные, легкие балалайки, красу и потеху ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего, и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихострунного треньканья».[353]
А две дамы, которые в одной и той же фразе становятся девочками! «Дамы ухватились за руки, поцеловались и вскрикнули, как вскрикивают институтки, встретившиеся вскоре после выпуска, когда маменьки еще не успели объяснить им, что отец у одной беднее и ниже чином, нежели у другой».[354]
А глаза Плюшкина, о которых мы вдруг забываем, чтобы заинтересоваться мышами!
«Маленькие глазки его еще не потухнули и бегали из-под высоко выросших бровей, как мыши, когда, высунувши из темных нор остренькие морды, насторожа уши и моргая усом, они высматривают, не затаился ли где кот или шалун мальчишка, и нюхают подозрительно самый воздух».[355]
А это небо, неопределенного цвета, которое приводит нас каким-то странным обходным маневром в гарнизон:
«Даже самая погода весьма кстати прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светлосерого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням».[356]
Если эта лавина метафор несколько смущает читателя и вызывает улыбку на губах, то в диалогах Гоголь наиболее остроумен. Не только Чичиков, как мы это уже видели, говорит, применяясь к обстоятельствам, но и каждый из его собеседников наделен своей собственной индивидуальной красочной речью. Как главные персонажи, так и второстепенные, говорят так, что сразу виден их характер. Резкая и тяжеловесная речь Собакевича ничуть не напоминает медоточивую и вычурную манеру изъясняться Манилова, которая, понятно, отличается от веселого ржания Ноздрева, и их невозможно спутать со старческим лепетом Коробочки или с сухими и недоверчивыми репликами Плюшкина.
У крестьян тоже характерный сочный говор, отличающийся от щебетанья городских дам, чьи пустые пересуды явно позабавили автора:
«Сестре ее прислали материйку: это такое очарованье, которого просто нельзя выразить словами; вообразите себе: полосочки узенькие, узенькие, какие только может представить воображение человеческое, фон голубой и через полоску все глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки… Словом, бесподобно! Можно сказать решительно, что ничего еще не было подобного на свете».
«Милая, это пестро».
«Ах, нет, не пестро!»
«Ах, пестро!»
«Да, поздравляю вас: оборок более не носят».
«Как не носят?»
«На место их фестончики».
«Ах, это нехорошо, фестончики!»
«Фестончики, все фестончики: пелеринка из фестончиков, на руковах фестончики, эполетцы из фестончиков, внизу фестончики, везде фестончики».[357]
Какой читатель, не открыв еще «Мертвые души», мог бы предположить, что пошлость человеческая может иметь столько разных обличий? И этот парад образчиков пошлости автор развернул перед нашими глазами с каким-то жестоким наслаждением. Однако, закончив чтение книги, теряешься – а что же, собственно, он хотел сказать? Полагая, что он высмеял духа тьмы, он воспел его победу; пытаясь прославить величие России, он показал ее слабости; борясь за право наставлять себе подобных, он их рассмешил, и вот они хохочут, вместо того чтобы содрогнуться от стыда. И все-таки, несмотря на непродуманную основную мысль, несмотря на противоречия и отклонения от темы, «Мертвые души» представляют собой наиболее завершенное произведение Гоголя. Это – особый мир, закрытый со всех сторон и полный тайны. Стоит туда проникнуть, и тебя охватывает его удушающая атмосфера и фальшивое освещение. На этой мрачной планете еще надо научиться дышать. И предметы, и лица тут искажены. Голоса звучат, как из бочки. На каждом шагу тебя ожидает западня. Расставаясь с Чичиковым, которого тройка уносит, может быть, прямо в ад, читателю нужно время, чтобы прийти в себя, чтобы вернуться в реальный мир. Отныне он не сможет по-старому смотреть на свое окружение – на вещи и на людей. Ему было дано шестое чувство, и это позволит ему различить хаос за красивой ширмочкой. Он теперь свой человек в мире иррационального. За что он полюбил «Мертвые души»? К чему этот вопрос? Разум тут ни при чем. Эта книга, изобилующая ненужными подробностями, многослойная по своему замыслу, на первый взгляд смешная, а на самом деле – исполненная трагизма, являющаяся одновременно эпопеей и памфлетом, сатирой и кошмарным наваждением, исповедью и заклинанием бесов, не поддается однозначному определению. Она не создана для того, чтобы спокойно стоять на библиотечной полке. Она царит, окруженная ореолом, оказывающим пагубное влияние, в самых дальних высях, где-то между «Дон Кихотом» и «Божественной комедией». Какой-то странный масонский заговор объединяет по всему миру людей, которые однажды вечером нашли на ее страницах повод посмеяться или причину для беспокойства.