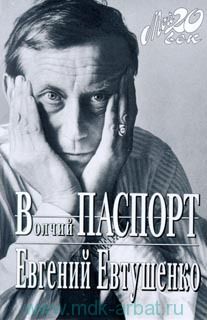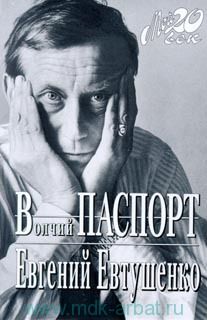— Подойдите ко мне поближе… — с неожиданной гипнотизирующей ласковостью сказал Катаев.
Герой Ремарка почти на цыпочках приблизился к столу, как заколдованный, повторяя:
— Я боюсь, что…
— Теперь нагнитесь… — усилил ласковость до жесткости приказа Катаев.
Официанты выстроились у бара, созерцая нечто невиданное — укрощение их величественного тирана, которого за глаза они называли Тамерланом, хотя больше это относилось к внешности, чем к характеру.
Метрдотелю стало душно. Он потянул галстук-бабочку так, что из-под тугого «бристольского воротничка», как любил выражаться Катаев, показалась трусиковая резинка сиреневого, денатуратного цвета. Метрдотель нагнулся над столом, вцепившись в скатерть, сползшуюся внутрь его пальцев, а под крахмальной манишкой груди хрипела все та же «заевшая» на одном месте пластинка:
— Я боюсь, что…
— А вы не бойтесь, — жестко произнес Катаев, кладя на испуганно вздрагивающие богатырские плечи дегероизированного им героя Ремарка свои руки, обсыпанные, как он сам шутил, не веснушками, а «осенюшками»… — Не бойтесь, Миша… Ведь все можно достать, если сильно хочется. Разве не так?
— Так точно… — вдруг по-военному вырвалось у метрдотеля, может быть готовившегося когда-то вернуться в Россию на белом коне вместе с благородным генералом Кутеповым, так бестактно похищенным большевиками.
— А теперь действуйте, Миша! Кто ищет, тот всегда найдет — как удачно выразился Лебедев-Кумач… — благословил его Катаев. — Напоминаю — «Вдова Клико», брют. Год тысяча девятьсот шестнадцатый.
Герой Ремарка, как сомнамбула, целенаправленно поплыл к выходу и растворился в парижской ночи, как будто его никогда не существовало ни в жизни, ни в романах.
Катаев мелодично постучал вилкой по бокалу, и из толпы официантов засеменили к нашему столу сразу двое самых смелых из них, тем не менее боязливо переглядываясь.
— А пока ~ откройте бутылку «Дом Периньон» двадцать шестого года. На закуску, как в тысяча девятьсот шестнадцатом, две дюжины устриц и страсбургский паштет.
Один из официантов, конфиденциально склонившись, что-то шепнул Катаеву — как я догадался, видимо, астрономическую цену бутылки.
— Я же сказал — откройте… — скучающе сделал царственный жест Катаев.
О, он отнюдь не выдохся — этот почти семидесятилетий старик Саббакин, подаривший когда-то Ильфу и Петрову только притворившийся легкомысленным сюжет «Двенадцати стульев» — самой коварнейшей и очаровательной антисоветской книги, которой упивалась даже сама советская власть!
Не выдохся и «Дом Периньон».
Затем торжественно прибыла все-таки добытая метрдотелем неизвестно из чьих запаутиненных подвалов «Вдова Клико» того самого года, когда юный офицер Катаев кутил в Париже, поднимая тосты за победу России в первой мировой войне и вряд ли догадываясь, чем она кончится. Правда, некоторые родственники Катаева утверждают, что он не был в том году в Париже. Но даже если бы это была фантазия, то «Вдова Клико» шестнадцатого года на нашем столе была реальностью.
«Вдова Клико» тоже не выдохлась. Недаром она была любимицей Пушкина. В наших бокалах золотые искры плясали вечный танец, как некогда перед тем смуглым курчавым хореографом рифм и пузырьков, без которого не было бы всех нас.
Метрдотель оказался предусмотрительным и взял полдюжины бутылок. Цену я не запомнил, потому что, видимо, было страшно запоминать. Постепенно пришедший в себя после катаевского гипноза герой Ремарка, угощенный Катаевым, тоже приложился к эликсиру времен первой мировой войны и затем полушаляпински забасил «Дубинушку» под оркестр.
Катаев со слезами на глазах бросился к нему, обнимая и засовывая ему за манишку пачки портретов автора «Отверженных» — то бишь франки.
По-юношески стройный кавказский князь со старческим лицом, изрытым морщинами изгнанья, сверкая кинжалом в золотых зубах, танцевал лезгинку в мягких сапогах, похожих на сушеные урючины.
Катаев, запустив руку за пазуху, щедро швырнул ему под ноги несколько крупных купюр из платы за мое обучение литературе и Парижу.
Князь хищно игранул орлиными глазами, метнул кинжал, пригвождая им к полу одну за другой банкноты и молниеносно пряча их в каракулевую папаху.
Катаев был в апофеозе швыряния денег. Он швырял их так же роскошно, как чьи-то цитаты в своих поздних книгах, магически становившиеся его собственными метафорами. Он засунул деньги в красный сапожок польки, с акцентом распевавшей «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля», запихнул их за корсаж трясущей бусами необъятной цыганки, так что бумажки сползли вместе со струйкой пота между двух ее безбюстгальтерных грудей, похожих на дыни, которыми когда-то Петя Бачей лакомился в дилижансе.
А когда вышел бандурист с самым настоящим запорожским оселедцем и в шароварах по Гоголю — шириной с Черное море, запачканных, в знак презрения к ним, может быть, не дегтем, но хотя бы дижонской горчицей, то из-за пазухи Катаева вылетел целый веер франков, с малороссийской сентиментальностью застревая в струнах бандуры.
Лицо Катаева совершенно преобразилось, поюнело, стало чуть ли не прапорщицким, и я вдруг телепатически увидел его в том 1916 году, точно так же швыряющего деньги в парижских ресторанах. Только чьи деньги швырял тогда сын бедного учителя? Уж не те ли, которые предназначались на снаряды и амуницию?.. Уж не спасла ли его революция от наказания за бесшабашный молодече-ский загул и нечаянную юношескую растрату — и не потому ли его впоследствии так однажды подсознательно потянуло к веселой, хотя и сатирической теме растратчиков? Не потому ли он так полюбил революцию, что она размашисто списала все его безрассудные ранние грехи?
2
Но ведь эта же революция и отобрала у него столькое — в том числе и возможность ездить в Париж, когда хочется, а не когда в виде подачки «посылают».
Вернее, не отобрала, а выдрала. Как зубы.
Время — это дантист, вырывающий нас из нас без анестезии
«Решетчатые радиолокаторы вращались, как зубоврачебные кресла».
Катаев заставлял себя любить отвратительные жирные волосатые пальцы новой власти с черными ободками под ногтями, лезущие с зубодерными клещами в глотку и душу
Это ее, новую власть, он описал в образе остервенелой бабищи, присасывающейся к уху каждого нового сожителя с захлебывающимся сладострастным шепотом: «А теперь — веши покупать!»
Еще в ранних двадцатых Катаев брезгливо высмеивал политические вопросники и сходящих с ума от зубрежки совелууаших «Кто ренегат? Каутский. Кто депутат? Пенлеве»
Это была любовь не от любви. Любовь от страха. Любовь от отсутствия выбора.
Петя Бачей больше всего в революции любил Гаврика. Но в тридцать седьмом году у взрослого Гаврика был только один выбор — либо стать палачом, либо жертвой.
Катаев именно в 1936 году лихорадочно начал писать свою гениальную книгу «Белеет парус одинокий», закутавшись, как в кокон, в собственное детство, но время от времени вынужден был высовывать из этого кокона авторучку, чтобы подмахнуть очередное письмо, разоблачающее «врагов народа». Иначе его самого могли бы вытащить из этого кокона и швырнуть на плаху.
Говорят, что талант — это Божий дар. Но дьявольский договор можно заключить и с Божьим даром. Не перестает ли он от этого быть Божьим?
Не будь у Катаева звериного инстинкта самосохранения, писателя, может быть, не в чем было бы морально упрекнуть, но зато он, наверное, не смог бы выжить и написать ни «Белеет парус одинокий», ни «Святой колодец», ни «Алмазный мой венец», ни «Траву забвенья», ни беспощадный приговор революции в своем самом страшном произведении: «Уже написан Вертер».
А из-за того, что он выжил, не гнушаясь любой ценой, мрачноватый блик усталого цинизма лежит и на его феноменально написанных последних книгах. Катаев был циник особого советского типа — циник романтичный, циник, артистичный до мозга костей, циник, ненавидящий циников, циник, порой щедрейше помогавший всем, от кого цинизмом и не пахло.
Это был цинизм с сентиментальными порывами. Это был слишком непредсказуемый, неуправляемый вид цинизма, не способный, правда, на Голгофу, но способный на упрямство, неподчинение и на прочие капризы, непозволительные с точки зрения цинизма правящего и амебного цинизма большинства.
Катаев самоспасительно и самоубийственно изо всех сил пытался внушать себе любовь к революции. «Какой бы я ни был, я обязан своей жизнью и творчеством Революции. Только Ей одной. Я сын Революции. Может быть, плохой сын. Но все равно сын».
Только ей? А как же Бунин? Что-то не складывается… Может быть, от этого и возникают такие неприятные пассажи в «Траве забвенья»?
«Потом уже я понял, что он не столько желчный, сколько геморроидальный» (это о Бунине), или: