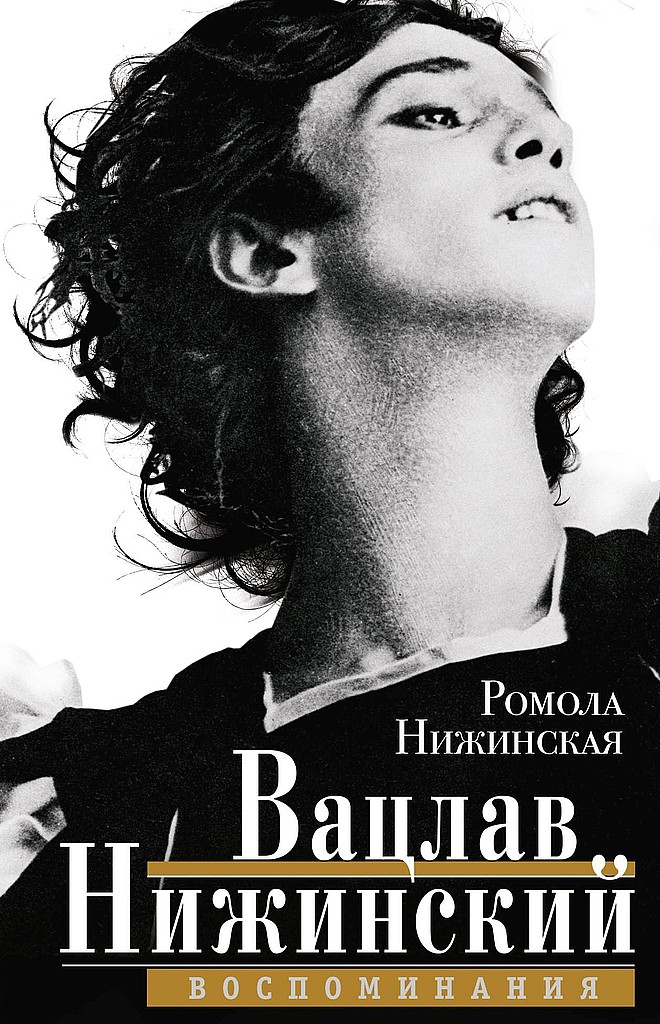мою сестру и моего зятя Шмедеса. У Эрика было доброе сердце, и Вацлав не забыл его верность.
Наступила весна, и с ее приходом иностранцы разъехались. Мы вновь остались с местными жителями, совершенно патриархальными людьми. Их жизнь — так нам казалось — была от нас далека и отставала от нашей на пятьсот лет. Знаменитый спортивный центр снова стал очень тихой альпийской деревней. По вечерам в гостинице «Почтовая» нотариус, мэр и врач встречались, чтобы порассуждать о благе своей маленькой общины. Вацлав любил слушать их споры: они очень напоминали ему Россию. Мы так любили Санкт-Мориц, что не желади уезжать из него даже на день.
Первые крокусы робко пробились на свет, и это было официальным началом весны; но потоки тающего снега заставляли нас больше времени сидеть дома, и Вацлав снова начал давать мне уроки. Он казался легче, чем когда-либо; количество его пируэтов и антраша было бесконечным, а когда я смотрела, как он выполняет батманы и плие, мне иногда казалось, что он легче даже снежных хлопьев. Но он был крепок как сталь, а изгибался как каучук.
Однажды, читая что-то, я сказала ему о том, как люди каждого века кажутся похожими друг на друга. «Это из-за костюма, — ответил он, — потому что костюм определяет наши движения». Эта мысль была новой для меня, но, обдумав ее, я поняла, что он был прав. Вацлав был способен, увидев контуры и ткани костюма, верно реконструировать по ним жесты соответствующей эпохи. Он в буквальном смысле слова вставлял тела в пустые костюмы любого периода истории.
Он был полон идеями для новых балетов. Он сочинил восхитительную версию «Песни Билитис» Дебюсси и сказал мне: «Я хочу, чтобы роль Билитис танцевала ты. Я сочинил ее для тебя. Она подчиняется тем же хореографическим законам, что „Фавн“».
Танец здесь был в идеальной гармонии с движением музыки, со всей ее тонкостью чувств и сладкой извращенностью. Балет состоял из двух сцен: первая — Билитис и ее возлюбленный-пастух, их любовь, их юность на зеленых островах Греции, вторая — Билитис и ее возлюбленная-девушка, которая разделяет с ней ее печали и удовольствия.
Другой работой Вацлава была хореографическая поэма, в которой он описал свою собственную жизнь: юноша ищет истину через жизнь, сначала он ученик, открытый для всего, что ему предлагает искусство, для всей красоты, которую могут дать ему жизнь и любовь, а потом — его любовь к женщине, спутнице его жизни, которая в конце концов уводит его за собой. Временем действия Вацлав выбрал эпоху Высокого Возрождения. Юноша был художником, а его учитель одним из великих людей искусства того времени, всесторонним гением — таким, каким казался Вацлаву Дягилев. Вацлав сам разработал декорации к этому балету; они были в духе нашего времени, но при этом соответствовали той эпохе. «Знаешь, фамка, круг — это законченное, совершенное движение. Все основано на нем — жизнь и искусство, а для нашего искусства это особенно верно. Это совершенная линия». Вся система записи движений была основана на круге, на нем же был основан и этот балет. Он соответствовал прежней методике Вацлава, но, в отличие от «Фавна» и «Весны», был круговым. Декорацией была конструкция с изогнутыми контурами, и даже выход на авансцену был круглым. Вацлав сам разработал всю конструкцию до мельчайших подробностей. Она была в стиле Рафаэля, окрашена в синие, красные и золотистые цвета.
Почти за одну ночь мир вокруг нас изменился. Замерзшее озеро начало вздрагивать. Склоны Альп покрылись ароматными цветами, и по ним буйно разлились все краски — яркий розовый цвет альпийских роз, пурпур сладко пахнущих фиалок и васильковая синева горечавок. Снег отступил на вершины пиков, которые теперь были нам хорошо знакомы и имели для Вацлава каждый свое особое значение. Мы взбегали на Альп-Гиоп и бросались на землю среди цветов. Лежа там, на благоуханном лугу, мы говорили о многом.
Я рассказала Вацлаву о том, как несчастны в браке были мои родители, и стала упрекать в этом мою мать, но Вацлав остановил меня: «Не будь жестокой. Ты не знаешь обстоятельств, которые заставили ее поступать так, как она делала. Мы никогда не должны никому выносить приговор, и права судить мы тоже не имеем». Я часто жаловалась на трудности, которые нам приходилось терпеть в это военное время, но Вацлав говорил: «Не смотри вверх на тех, кто счастливее тебя, смотри вниз на тех, кому хуже, и будь благодарна за свою судьбу».
С самого рождения Киры я все время чувствовала легкое недомогание, и Вацлав настоял на том, чтобы я посоветовалась в Берне со специалистом. У этого врача было принято решение, что мне нужна небольшая операция. Я легла в санаторий, а когда все закончилось, отправила телеграмму Вацлаву. Он приехал ближайшим поездом с охапкой роз в руках и провел две недели у моей постели. В Берне он посмотрел танец Захарова. На следующий день я пожаловалась, что не смогла пойти с ним, а он сказал: «Ты ничего не потеряла, там были одни позы и никакого танца. Это как в Мюнхене». Я увидела, что он разочарован, потому что он всегда очень хотел видеть, как новый талант продвигает вперед его любимое искусство.
Наступила осень, воздух был прозрачен как хрусталь, все вокруг приняло цвета от самого светлого топаза до темной как загар сепии. Я еще не совсем окрепла, и Вацлав очень старался, чтобы я отдыхала. Он стал очень интересоваться домашним хозяйством и в русской патриархальной манере проследил за тем, чтобы в доме было достаточно топлива для зимы. Рубка дров происходила в нашем саду, и Вацлав помогал тем, кто рубил, в их работе. Кроме того, он часто заходил на кухню, что восхищало кухарку. Он поднимал крышки кастрюль, и, если случалось, что во время его прихода на кухне пекли пирог, Вацлав обычно доедал остатки начинки из миски, как в детстве.
Я давала Кириной бонне-швейцарке выходной, чтобы она могла увидеться со своим мужем, служащим из отеля «Палас». Однажды она была срочно вызвана к нему и не возвращалась два дня. Вернувшись, она рассказала мне об огромной беде, разрушившей ее жизнь: ее муж внезапно сошел с ума. Его пришлось отправить в сумасшедший дом, а она должна вернуться к своим родителям. Она рассказала мне о том, как разрывалось ее сердце, когда она увидела, что на мужа надевают смирительную рубашку. «Но, Мари, вы что же — ничего не замечали раньше?» — «Нет, он всегда был совершенно нормальным, только поздно ночью