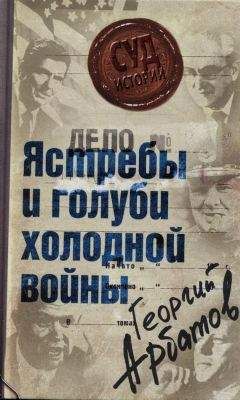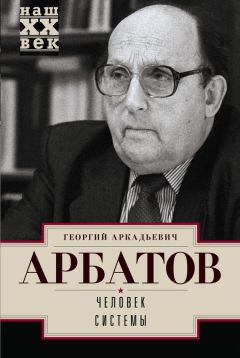Второй вопрос из тех, что я поднял, — попытки вернуть в лоно классического, сталинского догматизма нашу экономическую науку.
Я сообщал, в частности, о «директивных» лекциях, с которыми в последнее время гастролировал по крупнейшим академическим институтам заведующий сектором экономических наук Отдела науки ЦК КПСС М.И.Волков. «Лейтмотивом этих поучений Волкова, — писал я Андропову, — было следующее: вся беда в том, что увлеклись конкретными исследованиями — хозяйственным механизмом, управлением и т. д., а надо заниматься главными категориями политэкономии, ее предметом и методом, общими законами, формами собственности и др. Везде как образец творчества и общественной полезности превозносилась экономическая дискуссия 1951 года и связанная с ней работа И.В.Сталина (по мнению настоящих экономистов — одна из самых неудачных и оторванных от жизни его работ). Вещал т. Волков и массу других нелепостей».
Весь дух лекции Волкова, по словам многих присутствовавших на них, был предельно догматичный и схоластичный. Выступления воспринимались как направленные против указаний о сближении экономической науки с практикой, помощи науки в решении наиболее острых и сложных экономических проблем. «В ИМЭМО и у Олега Богомолова есть записи этих выступлений — их Ваши помощники могут запросить, — писал я Андропову. — Гул в этой связи идет большой — люди, опять же, не понимают, куда идет поворот, и на сей раз не только деятели литературы и искусства, но и люди очень деловые. Гадают и насчет запланированного совещания — не задумано ли оно как дубина против многих ученых и закрепление догматическим позиции. Словом, создается впечатление, что дело здесь делается вредное и нечестное».
Отвечая мне, Ю.В.Андропов обвинил меня в «удивительно бесцеремонном и необъективном» тоне, в «претензиях на поучения» и отсутствии объективности, заключив, что это — «не тот тон, в котором нам следует раз говаривать с Вами» (меня удивило и насторожило, что впервые, наверное, с 1964 года он обратился ко мне на «вы»). Что касается существа поднятых мною вопросов, то он отверг все доводы о начавшемся зажиме а области культуры и не удосужился проверить факты о положении в нашей экономической науке.
«Я не знаю, что мог там «вещать» т. Волков, — писал мне он, — но даже если взять на веру то, что Вы об этом пишете, то оснований для паники нет. Надо поправить его там, где он ошибается, и все (и это писал мне искушенный политик, знавший субординацию, установленную между аппаратом ЦК и учеными! — Г.А.). Вы пишете, — продолжал он, — что «гул в этой связи идет большой — люди опять же не понимают, куда идет поворот… не задумано ли запланированное Совещание как дубина». На каком основании такие выводы? Разве ЦК «избил» кого-нибудь за последнее время? Ну а кому делать нечего, могут гадать, как им заблагорассудится». Тоже несправедливо, думал я: кто-кто, а Юрий Владимирович знает, как ответственные работники аппарата ЦК могли ломать судьбы людей и даже целых направлений пауки.
Но самое для меня существенное было написано в конце: «Пишу все это к тому, чтобы Вы поняли, что Ваши подобные записки помощи мне не оказывают. Они бесфактурны, нервозны и, что самое главное, не позволяют делать правильные практические выводы».
Я это понял иначе. Не как попытку меня поправить — это я всегда готов был принять. А как своего рода «декларацию» о прекращении отношений и, уж конечно, прежних отношений. Притом почему-то не устную (даже пусть по телефону), а «документально оформленную».
Это был разрыв, большая ссора. Меня она крайне огорчила. И удивила. Дело в том, что и тон моего письма, и сами поднятые вопросы ничем не отличались от наших обычных бесед и тех записок, которые я Юрию Владимировичу время от времени посылал. Более чем двадцатилетние отношения как-то расположили меня к тому, чтобы не обращать внимания на условности, писать то, что думаю, не особенно заботясь о форме. И никогда это не вызывало гнева. Перечитывая письма, я а тот вечер пришел к выводу; что могу себя упрекнуть лишь в двух вещах. Первая: излишне злой, хотя так не задумывал, получилась в контексте письма поговорка «вот тебе и Юрьев день», тем более что здесь упоминался спектакль «Борис Годунов», — Андропов мог подумать, что я имею в виду какие-то исторические параллели. И вторая: возможна зря я выпустил из виду, что прежний Юрий Владимирович, став первым в партии и стране лидером, стал и несколько другим Юрием Владимировичем — во всяком случае, ожидал другого обхождения с собой. Хотя в это не хотелось верить, я считал его слишком крупным и умным человеком для того, чтобы власть вскружила ему голову и привела к такой неожиданной для меня открытой вспышке.
Тут же я позвонил А.Е.Бовину— единственному человеку, кому я мог оба письма показать и посоветоваться. Мы встретились на троллейбусной остановке на Кропоткинской. Шел дождь, и, прикрывая письма рукой, я их ему прочел при свете уличного фонаря. Бовин, тоже хорошо знавший Андропова, согласился со мною, что дело было не в самом моем письме, во всяком случае, не в одном моем письме, — Юрии Владимирович, скорее, использовал его как повод, чтобы осуществить что-то уже задуманное — «дистанцироваться», отодвинуть меня подальше. Согласился Бовин также с тем, что мне не надо ни извиняться, ни объясняться, ни пытаться уладить инцидент. Оставалось одно — принять и понять посланный сигнал: «Не путаться под ногами». Буквально через несколько дней по какому-то случаю аналогичное столкновение произошло у Андропова и с Бовиным, что утвердило меня во мнении: письмо было лишь поводом.
Но что же стало причиной? Я, естественно, не раз об этом думал. И все больше утверждался во мнении, что дело было в попытках некоторых представителей руководства, в частности, Зимянина, Устинова, может быть, Черненко (не исключаю, что участвовали и люди из окружения Андропова), изолировать, нового руководителя от тех контактов и связей, через которые он мог получать независимые, отличающиеся от официальных мнения и оценки. До меня доходило: был пущен слух, конечно же, услужливо доведенный до Андропова, что некоторые люди, ранее работавшие с ним (включая меня), распространяются о своей давней дружбе с Генеральным секретарем, пытаются нажить на этом политический капитал.
Конечно, остается открытым вопрос: как сам Юрий Владимирович, столько лет знавший нас, мог поверить этой чепухе? Ответ я вижу прежде всего в том, что у Андропова была слабость прислушиваться к сплетням. И даже иногда внимать им. А также не портить отношения со сплетниками, особенно если это люди высокопоставленные. Ну а второе — это болезнь. Андропов уже был тяжко болен, и это нередко сказывалось на его суждениях. В том, что болезнь сыграла свою роль и Андропов не полностью себя контролировал, меня убедили последующие события.