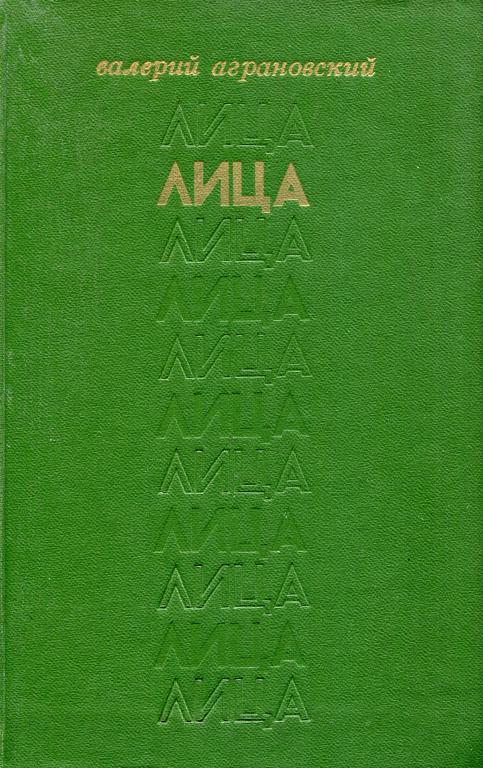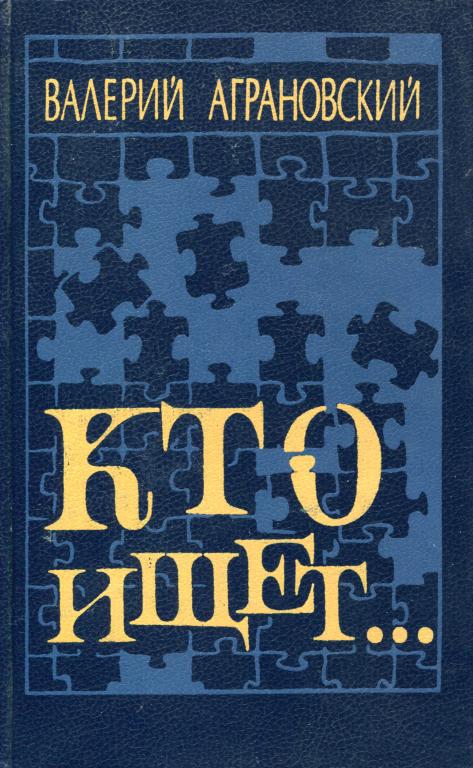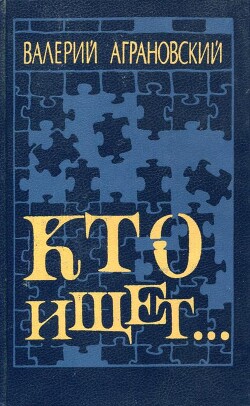Андрея?
Передо мной сидел десятый «Б», в котором должен был учиться Малахов, не стань колония его «университетом». Я обратился к школьникам с таким вопросом: «Если бы вы были судьями, на какой срок вы осудили бы Андрея за его преступления?» Ответы посыпались со всех сторон: «Я на три года!», «А я на восемь!», «Я на пять!» Один аккуратный юноша в очках поразил меня более всех, он спросил: «А на сколько можно?» Потом ребята, как бы оправдывая свою безжалостность, с удовольствием и даже с некоторым сладострастием вспоминали негативные качества и поступки Малахова. Я понимал справедливость их слов и оценок, но окраска каждого эпизода и всеобщая кровожадная веселость чрезвычайно меня смущали.
Да, Андрей был плохим человеком — мстительным, злобным, жадным, замкнутым, неопрятным по внешнему виду и недостойным во многих своих проявлениях, — но чему тут радоваться? Зачем его добрые чувства к Татьяне Лотовой трактовать так, будто Малахов был «бабником», как сказала одна десятиклассница при веселом одобрении всего класса? Почему сознательный, вызванный болезненным самолюбием отказ Андрея отвечать у доски породил всеобщую уверенность в его бездарности и тупоумии? Я говорю в данном случае не о кривом зеркале оценок, а о тенденции, имеющей обвинительный уклон, хотя никто из школьников даже попытки не сделал разобраться во внутренних мотивах человека, поступающего так, а не эдак, и не чужого им человека, а восемь лет просидевшего бок о бок за одной партой. С таким «портретом» Андрей, конечно же, имел пониженный статус среди школьников, в результате которого потерял к ним всяческий интерес, но увеличил интерес к собственной персоне. Это не могло не привести подростка к инфантильности и эгоцентричности, что еще более оттолкнуло класс от Малахова, еще более усилило взаимную изоляцию. Но у Андрея, как у любого живого человека, была естественная потребность в общении, и, раз она не удовлетворялась в школе, ей суждено было удовлетвориться в каком-нибудь другом месте. В каком, если не на улице, не в «сходняке», не в обществе Бонифация? А там, желая укрепиться и как бы в благодарность за «понимание», Андрей стал исповедовать нормы морали, ничего общего не имеющие со школьной, что довершило полную изоляцию, — примерно так объяснили бы механизм явления психологи.
«Вы знаете, — сказал я, — как называла Андрея бабушка Анна Егоровна? Она звала его Розочкой… — Мгновенный хохот всего класса, без секунды промедления. У них такой настрой, подумал я, или это действительно смешно? — А кто может припомнить об Андрее что-нибудь хорошее?» Было долгое недоуменное молчание. Они не могли понять, чем вызван мой «странный» вопрос. Не совершил ли Малахов в колонии подвиг, не «заткнул ли собой чего-нибудь», как сформулировал потом свои подозрения тот же аккуратный десятиклассник в очках, и вот, мол, теперь корреспондент доискивается истоков благородного поступка Малахова, а класс, выходит, так глупо промахнулся! Я молчал, не подтверждая, но и не опровергая их домыслов, и вскоре кто-то робко произнес: «Вообще-то он умный был, только придуривался!», «Задачки решал здорово!» — добавил другой. «А я видела, как он пришил первокласснику пластмассовую снежинку на пальто!», «А однажды мы собирали металлолом, он отобрал у нас тяжелющую батарею, отнес к сборному пункту и еще прихватил кровать!», «А при мне он подложил какому-то октябренку в портфель шоколадную медаль!» — я едва успевал записывать.
Собственно, такой поворот не явился для меня неожиданностью. Еще до разговора с десятым «Б» я задал аналогичный вопрос взрослым, имеющим дело с Андреем Малаховым. Они проходили те же стадии: от безжалостности — через недоумение — к мучительным воспоминаниям о добродетелях моего героя. Они тоже смутно подозревали «нечто», лежащее в основе моей любознательности, как будто хорошее о человеке можно вспоминать только по хорошему поводу, а по плохому надо вспоминать только плохое. Шеповалова сказала: «К чему вам это? От нас уж могли бы не скрывать!» — «Поверьте, — ответил я, — ваше предчувствие вас обманывает, я просто интересуюсь уровнем объективности людей, окружавших Малахова». Она взглянула на меня с недоверчивостью: «Ну хорошо. Объективно? Пожалуйста. Он был откровенным. Спросишь, бывало: учиться хочешь? Нет! — не выкручивался, как другие. А дома, спросишь, плохо? Плохо! Кроме того, у него были какие-то способности, не помню только, к чему именно, то ли к математике, то ли к рисованию, хотя, кажется, рисовала его мать, а не он…» Евдокия Федоровна тоже вспомнила, как она выразилась, один «странный и алогичный» поступок Андрея, когда однажды, явившись в класс, она застала ребят торжественными и притихшими, и «сам» Малахов вдруг преподнес ей огромный букет цветов. Тот день был днем ее рождения, она прослезилась, а потом случайно узнала, что не кто иной, как именно Малахов, «раскопал» откуда-то ее дату, собрал деньги с ребят и лично покупал на базаре цветы. «До сих пор не понимаю, — сказала Евдокия Федоровна, — зачем ему было нужно, из каких корыстных побуждений». И отец отметил у сына одну положительную способность, хотя начал с того, что «осудили Андрея правильно, пусть теперь посидит и поумнеет»: «Он брал на сообразительность, как я, — не без гордости произнес Роман Сергеевич. — Потому и шли у него задачки. А вот физика не шла, ее без формул не возьмешь, а формулы учить надо и запоминать — это ему не по нутру было». Сам Андрей, кстати сказать, свои математические успехи объяснял иначе: «Дак я с детства приучен считать деньги!» Что касается Зинаиды Ильиничны, то она вспоминала о сыне стертыми словами, больше заботясь о том, какое впечатление производит на корреспондента лично она сама, нежели Андрей: «Он помогал мне по дому, повышал свой культурный уровень чтением, никогда не произносил нецензурных слов, а однажды я попросила его снести с третьего этажа нашу неходящую соседку, когда они переезжали на дачу, и он мне, конечно, не отказал…»
Я затеял все эти разговоры вовсе не для того, чтобы устанавливать чью-либо вину или уличать кого-то в жестокосердии. Как писал Ф. Достоевский, «совесть не сказала им упрека», и по сравнению с этим мои упреки были бы пушинкой, не более. Я хотел единственного: выяснить степень отверженности Андрея Малахова от коллектива, в какой-то мере способного быть гарантом его нормального поведения. В колонии он как-то признался мне, что последние годы ему приходилось от всех таиться: «Отец меня научил: не показывай мыслей наружу, потому что все люди враги! И точно, про беду дома скажешь — еще добавят, в школе скажешь — засмеют. А все радости у меня были в кражах, однажды восемьдесят рублей в сумке оказалось — знаете, как распирало? Да разве скажешь кому…»
Татьяна Лотова молчала. Я буквально испепелял ее