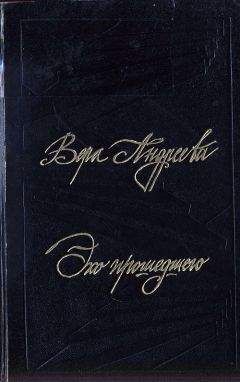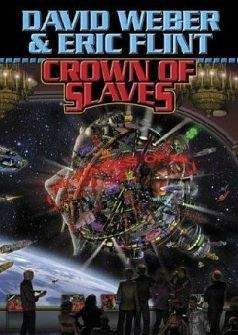— А, Иван Иванович! Здравствуйте! — приветствует надвигающийся вал пляжный шутник и весельчак Петр Семеныч, приготовившийся нырять неподалеку от меня.
Я снова ныряю, волна проносится надо мной, но — я немного замешкиваюсь, не успеваю вдохнуть воздух, и новый вал ударяет меня в грудь, в голову, с силой переворачивает, и я напрасно силюсь встать на ноги — вода с какой-то злобной силой волочит меня ко дну, тычет лицом в песок, в камни, а я даже не в силах отвернуть лицо… Вот тут-то меня и охватило жуткое ощущение конца — но в последний момент я все-таки высовываю голову из воды… Больше я уже в такую волну не купалась.
В шторм мы ходили с братцами на скалистый мыс за пляжем и там смотрели на прибой: громадные волны, беснуясь, кидались на скалы с такой страшной силой, что дрожала земля и целые фонтаны пены поднимались высоко в воздух. Проносясь по источенным водой извилинам и проходам в камнях, волны, извиваясь и грозно шипя, врывались в промоины и, встретив непоколебимую каменную стену, разбивались об нее в бессильной злобе, вставали стеной пены и брызг. Грохот и шум были так сильны, что надо было кричать, чтобы быть услышанным.
Саввка становился на самый край скалы, каскад брызг и пены обрушивался на него, а он простирал вперед руку, как бы призывая их к еще более страстной атаке. Мокрые до нитки, но ужасно счастливые, мы плясали и кричали что-то восторженное, и грохот прибоя заглушал наши крики, и чайки с хриплыми воплями носились над волнами, и весь мир в пене и брызгах лежал перед нами, — о молодость, о жизнь, о счастье!
Совсем другие чувства охватывали меня, когда наступила ночь и необъятная чаша небосвода, вся темно-темно-синяя, как торжественный бархат королевской мантии, усыпалась бесшумно шевелящимися звездами. Нигде больше нет такого громадного неба, полновластно царящего над землей и ее океаном. Нет ни гор, ни деревьев, ни домов, нет никакой живой природы — только огромное море, только огромное небо, только таинственное шуршание галактики, проносящейся где-то мимо, обтекая сверху, снизу, со всех сторон.
Далеко вдаль ушло море, под ногами гладкий твердый песок отлива. Я робко иду по песку, робко взглядываю вверх и уже не могу оторвать глаз от грозно молчащего неба, — оно властно притягивает к себе, погружает холодные когти в саму душу — знакомые, угрюмо покорные звуки Лунной сонаты призрачным эхом раздаются в ушах. С безмолвной мольбой я всматриваюсь в небо и с ужасом чувствую, до чего же оно равнодушно, до чего безжизненно, до чего ему нет дела до ничтожной козявки, какой являюсь я со всеми своими ничтожными мыслями, ничтожными печалями, ничтожной, короткой, как единый миг, жизнью. Так было, так будет: разрушится мир, разрушатся прекрасные города, провалятся в бездну забвения все дела человека, все пожрет этот ненасытный космос. И казалось мне — «сам космос, не дыша, глядит, как леденеет в нас душа», будто бросил он в мою душу осколки того злого зеркала, от которого заледенело сердце маленького Кая. Нет, не надо так долго всматриваться в ночное небо, лежа навзничь на океанском берегу, необъятность вселенной силой вторгается в душу, опустошает ее, всасывает в себя — и вот уже душа отделяется от тела, и, боже мой, как трудно, как неохотно возвращаться из этого ледяного полета в свой маленький тесный мир, такой ничтожный, но такой теплый, такой родной, — тише, надо лежать, скорчившись и закрыв глаза, — пусть там, наверху, летят куда-то галактики, пусть ненасытный космос глотает свои жертвы, — я здесь, на земле, вот она — теплая, родная, у меня под руками, я касаюсь ее, я ласкаю ее.
Воспоминания обо всем пережитом на океане кажутся далекими и не реальными, когда мой скорый поезд снова уносит меня обратно в Чехословакию, — мир снова окружен земными понятными рамками: вот причесанный лесок, вот речка, сердитые волны которой кажутся игрушечными, не приносящими никакого вреда, вот мостик — по нему беспечно проходят даже такие трусливые существа, как куры и бараны…
И снова пансион. На этот раз он находится уже за чертой города — туда надо ехать на поезде одну остановку с полустанка Страшнице.
Мама присылала мне один раз в месяц 150 тогдашних крон. Это было довольно много, если представить себе, что билет в кино стоил крону двадцать, а лучшее пирожное сорок геллеров. Я получала чеком в банке на Вацлавской площади — в благоговейной тишине чинные люди за окошком брали мой чек, совали в руку таинственный жетон. Я усаживалась в большое кожаное кресло, проваливалась чуть ли не до земли. «В такое кресло может свободно сесть и бегемот», — думала я, стараясь не слишком задирать коленки. Минут через десять чей-то деревянный голос называл цифру моего жетона, — я выкарабкивалась из кресла и шла к другому окошку. Высовывалась бледная рука, забирала жетон, и невидимый за темным стеклом фантом отсчитывал мои 150 крон. Взяв их и поклонившись уже опять наглухо закрытому окошку, мучительно сознавая, что мои казенные башмаки стоптаны, я, пошатываясь, выходила из тяжелых дверей банка на улицу. Немедленно придя в себя, я ускоренным темпом устремлялась в кафе Юлиш, неподалеку от банка, и, шикарно рассевшись в уютном уголке за столиком, заказывала себе любимые пирожные со сбитыми сливками и черный кофе — невероятно вкусные были эти пирожные, а кофе своим пронзительным ароматом привлекал даже прохожих на улице — даже с закрытыми глазами можно было понять, что приближаешься к знаменитой «каварне Юлиш» («кава» — это кофе по-чешски). Вкусив пирожных, я отправлялась покупать билеты в кино — один на дневной сеанс на один фильм, другой в другом кино на вечерний сеанс. Так как перед фильмом обыкновенно показывали «журнал», то есть новости со всего мира, а иной раз и целый добавочный фильм, то получалось, что за один день я ухитрялась увидеть целых три, а то и четыре фильма, не считая двух журналов. И, сжавшись в темноте на своем стуле и забывая даже пережевывать любимый шоколад с орехами, я упивалась зрелищем Гарри Купера или Джона Фарелла, недосягаемых, непостижимо мужественных, фантастически обаятельных. Что из того, что Гарри Купер был слишком тощ и неуклюж, что из того, что раз он даже свалился в мусорный ящик из-за своей деревенской неуклюжести, но зато какое мужественное благородное сердце у него было, какой взгляд он бросил на свою очаровательную блондинку, каким небрежным жестом он подносил два пальца к своему колониальному кепи, прощаясь с таинственной, загадочной Марлен Дитрих, отдавшей ему свое изменчивое сердце и последовавшей за ним босиком в пески Сахары. Этот финал фильма «Марокко» слегка шокировал меня — и ребенку становилось ясно, что далеко по пескам пустыни в таком скудном снаряжении Марлен Дитрих не дойти, даром, что она подхватила какую-то козу, показывая этим, что она такая же покорная женщина, как те бедуинки, что безропотно следуют за своим повелителем-мужчиной.